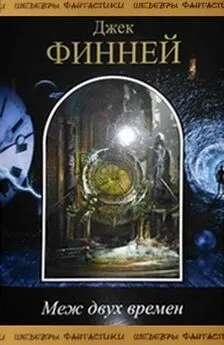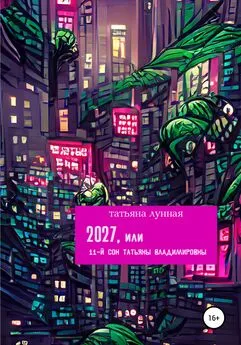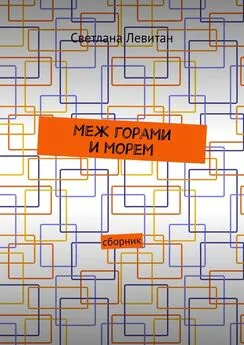Л. Зайонц - На меже меж Голосом и Эхом. Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян
- Название:На меже меж Голосом и Эхом. Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Л. Зайонц - На меже меж Голосом и Эхом. Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян краткое содержание
В сборник вошли работы известных российских и зарубежных ученых-гуманитариев – коллег, друзей, учеников и единомышленников Татьяны Владимировны Цивьян. Татьяна Владимировна – филолог с мировым именем, чьи труды в области славяноведения, балканистики, семиотики культуры, поэзии и прозы Серебряного века стали классикой современной науки. Издание задумано как отражение ее уникального таланта видеть возможности новых преломлений традиционных дисциплин, создавать вокруг себя многомерное научное пространство. Каждая из представленных в сборнике статей – своеобразная «визитная карточка» ученого, собранные вместе – спектр проблем, стянутых в «фокус» интересов Татьяны Владимировны Цивьян.
Книга рассчитана на широкий круг специалистов в области литературоведения, истории и теории культуры, искусствоведения, этнологии.
На меже меж Голосом и Эхом. Сборник статей в честь Татьяны Владимировны Цивьян - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вкус к реальности с детства поощрял Флоренского к поискам скрытой сути всего увиденного. Это оказалось возможным благодаря тому, что ему удалось создать личные отношения с каждой отдельной вещью, которая, обогащая его внутренне, становилась «своей», и спрашивать себя об истинном значении того, что казалось «чужим». Это проявилось в интересе к «своему» – человеческому – в «Органопроекции». То же можно сказать о храме , который сначала стал «своим» в «Храмовом действе как синтезе искусств» (1918), а затем в фундаментальном трактате «Философия культа» (1922) [175] . «Свое» привело Флоренского к глубинному пониманию живописи и, как итог, к проникновению в эстетику и философию иконы [176] : посвященный ей «Иконостас» (1922) появляется, как известно, в тяжелые годы конфискаций – торжества «чужого». В «Оро» Флоренскому удалось практически осуществить то, что он теоретически излагал в своих философских трудах. Его последняя поэма продолжает одну из основных идей, нашедших отражение как в «Иконостасе», так и в «Столпе и утверждении Истины»: в каждом акте творчества, в решении любой жизненной задачи, следует исходить из принципа «обратной перспективы», отталкиваясь от совокупности (=полифонии) точек зрения. Не эта ли мысль лаконично и образно сформулирована в последней части поэмы —
Тупой ли, звонкий ли удар
О камень, почву, пень иль лед —
Все собственный сигнал дает.
И звук вещей – не просто звук,
Но их волненье, их испуг,
Смятенных чувств открытый крик,
Их растревоженный язык [Оро, 119]?
Флоренский не раз жаловался, что ему редко удавалось довести свои исследования и теории до логического конца, о чем он горестно признавался в последнем письме к старшему сыну Василию: «Самому делать что-нибудь не хочется – <���…> тогда как довести до конца ничего не удается. Центр тяжести существования перешел уже из меня в вас, и мои мысли пусть развиваются в вас, в маленьком [177] , в Мике» (19.06.1937, Соловки) [П, 714].
К счастью, поэма и письма сохранились. Они свидетельствуют о том, как глубоко Флоренский был связан со своим «родовым» пространством, и в то же время открывают доступ в мир его «чужого», «паломничество» по которому ему пришлось совершить в ожидании расстрела в ГУЛАГе.
Литература
Геллер Л. Органопроекция в поисках человекомира // Pavel Florenskij: Tradition und Modern. Peter Lang. Frankfurt am Main, 2001: 283—301.
Д – Священник Павел Флоренский. Детям моим. (Воспоминания прошлых дней. Генеалогические исследования. Из Соловецких писем. Завещание). М., 1992.
Каухчишвили Н. Флоренский и Грузия: aimieifigli – memori di giorni passati // Флоренский П. Воспоминания. Milano, 2002: 335—342.
Л – Лекция и Lectio // Первые шаги философии. (Из лекция по истории философии). Вып. 1. Сергиев-Посад, 1917: 2–7.
Лихачев Д.С. Литература – реальность – литература. Л., 1981.
О – Органопроекция // Свящ. Павел Флоренский. Соч. в 4 т. Т. 3. М., 1999: 402—421.
Оро – Флоренский Павел. Оро. Лирическая поэма. М., 1998.
П – Письма с Дальнего Востока и Соловков // Свящ. Павел Флоренский. Соч. в 4 т. Т. 4. М., 1998.
Флоренский Павел . Смысл идеализма. Сергиев-Посад, 1914.
KappE. Grundlinien einer Philosophie der Technik. Zur Entstehung-sgechichte der Cultur aus neuen Gesichtspunkten. Braunschweig, 1877.
Iris Bäcker (Bochum – Moskau) Walter Benjamins “Moskau” als Vorbote seiner “Berliner Kindheit”
Москве я обязана прежде всего тем, что начала ухватывать в своей родной культуре нечто такое, что ранее было скрыто от моих глаз. Этот новый взгляд пришел ко мне благодаря во многом Татьяне Владимировне Цивьян. Знакомство с Татьяной Владимировной, длящееся уже более двадцати лет, обернулось для меня тем, что русская культура стала мне более близкой во всей, однако, ее чужеродности, и, наоборот, родная мне немецкая культура, которая представлялась прежде совершенно естественной, потеряла отчасти свою естественную естественность. Это непроизвольное отстранение от собственной культуры, задававшее теперь новую познавательную позицию, явилось для меня, так же как и для самого Беньямина, «самым несомненным, – говоря его словами, – прибытком пребывания в России». Именно эта позиция определила всю стратегию повествования его Берлинского детства . И если кто-то захочет пережить вслед за мной приключения рефлектирующей мысли Беньямина без риска упустить ее исключительно самобытный характер, то лучше всего это проделать, конечно же, на языке оригинала, которым так блестяще владеет Татьяна Владимировна.
Der Titel meines Beitrags verweist auf einen Zusammenhang zwischen Walter Benjamins Moskau-Erfahrung (soweit sich diese aus dem Moskauer Tagebuch (1926/1927) und dem Essay “Moskau” (1927) rekonstruieren lässt) und dem Erinnerungsbuch an die Berliner Kindheit um neunzehnhundert (1932—1938). Die Konstellation Moskau – Berlin mag überraschen, da Benjamins Berliner Kindheit traditionell als Fortsetzung der um das Berlin seiner Kindheit zentrierten Texte gelesen wird – beginnend mit den sechs kleinen Texten, die sich unter dem Titel “Vergrößerungen” in der Einbahnstraße (1928) finden, über die Rundfunkgeschichten für Kinder (1929—1932) bis hin zur Berliner Chronik (1932). Eine solche textkritische Lektüre der Berlin-Texte ist durchaus legitim, ja produktiv, da sie die fortschreitende Verdichtung der Benjaminschen Erinnerungen bis hin zur “Auszehrung des Faktischen” verfolgt. [178] Mindestens ebenso sehr lohnt sich indes ein (auf die spätere Berliner Kindheit bezogener) Rückblick auf Benjamins Moskau-Texte, klingt doch hier das Thema “Kindheit” bereits an. Dabei hat man es nicht nur mit einem thematischen Gleichklang zwischen den Moskau– und den Berlin-Texten zu tun, [179] sondern auch mit einem textgenetischen Zusammenhang. Gerade in den Moskau-Texten geben sich die Vorzeichen jener Erzählstrategie zu erkennen, die dann für die Berliner Kindheit konstitutiv werden wird. Eben davon handelt das Folgende.
Die Berliner Kindheit ist ein Erinnerungsbuch, es ist der Versuch, “der Bilder habhaft zu werden, in denen die Erfahrung der Großstadt in einem Kinde der Bürgerklasse sich niederschlägt” [Vorwort, Berliner Kindheit , GS , VII.1, 385]. Mit diesen Worten kündigt Benjamin im Vorwort zur Pariser Fassung der Berliner Kindheit seine persönliche Geschichte eines Hineinwachsens in eine Kultur an, deren historische Unwiederbringlichkeit ihm schmerzlich bewusst war. [180]
Bei Benjamins literarischer Rückkehr in seine kindliche Vergangenheit verlieren die Berliner Interieurs, Häuser, Straßen und Orte das vertraute Gesicht. Daher werden in diesem Erinnerungsbuch auch so wenig architektonische Sehenswürdigkeiten, so wenig faktische kulturelle und soziale Gegebenheiten des Berlins um die Jahrhundertwende sichtbar, wie sie wohl für den Erwachsenen bedeutsam wären. Schon die Titel der einzelnen Kapitel – “Der Strumpf” findet sich in gleichberechtigtem Beieinander mit der “Siegessäule”, “Der Nähkasten” mit dem “Kaiserpanorama”, “Das Telefon” mit dem “Tiergarten” – verweisen auf das, was für das Kind die wirklichen Sehenswürdigkeiten sind.
Der erinnernde Benjamin besieht die Welt, wie es bei Szondi in der schönen Formulierung heißt, “mit dem zweifach fremden Blick: mit dem Blick des Kindes, das wir nicht mehr sind, mit dem Blick des Kindes, dem die Stadt noch nicht vertraut war” [Szondi 1978b, 296]. Um diese Formulierung positiv zu wenden: Benjamin erinnert nicht einfach die Stadt seiner Kindheit, sondern die Stadt als eine ganze Welt, so wie sie sich in ihren Wörtern, einzelnen Dingen, Wohnungen und Straßen, mit ihren gelegentlichen Sommerreisen und alljährlichen Sommerwohnungen dem Kind entdeckt.
Gegenstand der Schilderung ist weniger das Was der Entdeckung als vielmehr der Vorgang des Entdeckens selbst. Zu dem zentralen Ereignis der Berliner Kindheit wird dementsprechend, dass das Kind alle erdenklichen Türen öffnet, jederlei Art von Schwellen überschreitet, die verschiedensten Räume betritt – oder doch zumindest in deren Inneres hineinspäht, hineinlauscht oder hineintastet. Stets steht hinter diesen einzelnen realen Gesten eine allgemeine psychologische Geste, nämlich die Erkenntnis als Entdeckung, Enthüllung, Entschleierung, Enträtselung, Entzauberung etc. Dabei ist es ganz gleich,
– ob das Kind den Riegel der Ofentüre beiseite schiebt [Wintermorgen, Berliner Kindheit , GS, VII.1, 397—398]; [181]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: