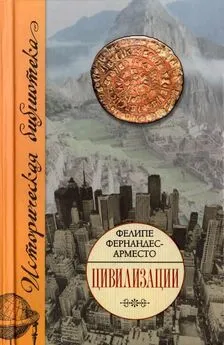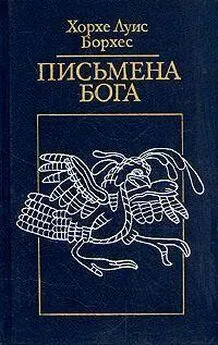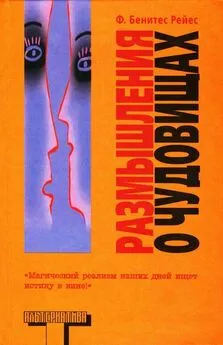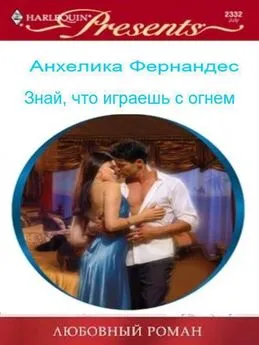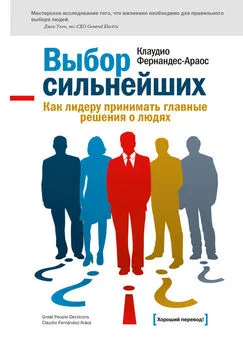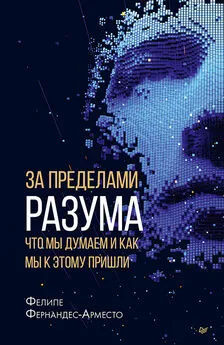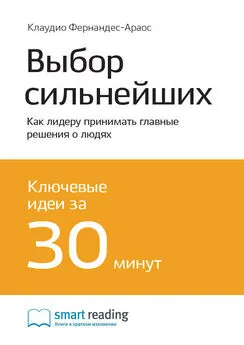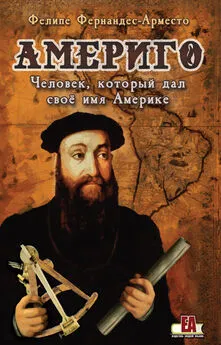Фелипе Фернандес-Арместо - Цивилизации
- Название:Цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-056644-0; 978-5-403-00426-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фелипе Фернандес-Арместо - Цивилизации краткое содержание
Фелипе Фернандес-Арместо — известный современный историк, преподаватель Университета Миннесоты, лауреат нескольких профессиональных премий и автор международных бестселлеров, среди которых особое место занимает фундаментальный труд «Цивилизации».
Что такое цивилизация?
Чем отличается «цивилизационный» подход к истории от «формационного»?
И почему общества, не пытавшиеся изменить окружающий мир, а, напротив, подстраивавшиеся под его требования исключены официальной наукой из списка высокоразвитых цивилизаций?
Кочевники африканских пустынь и островитяне Полинезии.
Эскимосы и иннуиты Заполярья, индейцы Северной Америки и австралийские аборигены.
Веками их считали в лучшем случае «благородными дикарями», а в худшем — полулюдьми, варварами, находящимися на самой низкой ступени развития.
Но так ли это в реальности?
Фелипе Фернандес-Арместо предлагает в своей потрясающей, вызвавшей множество споров и дискуссий книге совершенно новый и неожиданный взгляд на историю «низкоразвитых» обществ, стоящих, по его мнению, много выше обществ высокоразвитых.
Цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Советы руководства по мореплаванию примерно 1190 года представляют раннюю стадию принятия в Европе наиболее рудиментарных приборов для навигации: когда луна и звезды не видны, объясняет Гийот Провансальский, моряк должен опустить в сосуд с водой плавающую соломинку с булавкой, «хорошо натертой тем уродливым коричневым камнем, который притягивает к себе железо, и кончик булавки всегда будет поворачиваться на север». Удобный компас появился в XIII веке: острие уравновесили и укрепили в одной точке, так что оно могло вращаться на 360 градусов; обычно окружность делилась на шестьдесят частей. В течение Средних веков постепенно появлялись и весьма несовершенно усваивались другие навигационные приборы, но их применение откладывалось и осложнялось естественным консерватизмом традиционного ремесла.
Например, морские астролябии, которые позволяют моряку по высоте солнца или Полярной звезды над горизонтом определить свою широту, к началу XII века уже были известны в Западной Европе; из упоминаний и по немногим уцелевшим экземплярам мы знаем о существовании письменных таблиц, которые позволяли работать с этими приборами. Однако астролябии были на немногих кораблях. Использовать таблицы для определения широты по долготе солнечного дня было легче, но для этого требовалось более точное измерение времени, чем то, что было в распоряжении капитанов: обычно на корабле юнга переворачивал песочные часы [1057] R. Laguarda Trias, El enigma de las latitudes de Colon (Valladolid, 1974).
. Для опытного капитана — а другие в открытое море не выходили — в конце XV века лучшим инструментом навигации по-прежнему оставался невооруженный глаз [1058] P. Adam, ‘Navigation primitive et navigation astronomique’, Vf colloque Internationale d'histoire maritime (Paris, 1966), pp. 91-110.
.
Другим техническим новшеством, которое могло быть частично использовано в плаваниях, стали морские карты. С XIII века составители навигационных руководств процеживали практический опыт моряков в определении курса и давали указания, которые могли бы помочь штурману, не знающему местности. Самое раннее из дошедших до нас таких руководств — пособие начала XIII века касательно плавания между Акрой и Венецией. Примерно в середине того же столетия появляется «Compasso di navigare», самое раннее морское руководство по всему Средиземному морю, порт за портом описывающее берега, от мыса Святого Винсента по часовой стрелке до Сафи. Примерно в тот же период аналогичную информацию начали предоставлять «учебные карты». Самое раннее упоминание о них относится к 1270 году: такая карта сопровождала Людовика Святого в его крестовом походе в Тунис, и именно ее разложил перед ним генуэзский специалист, когда король пожелал узнать, близко ли он от Сардинии. Однако не позже 1228 года каталанский купец Пер Мартелл показывал своим спутникам предстоящий маршрут на Майорку, разворачивая перед ними карту [1059] T. Campbell, ‘Portulan Charts from the Late Thirteenth Century to 1500’, в книге J. В. Harley and D. L. Woodward, eds, The History of Cartography, I: Cartography in Prehistoric, Ancient and Medieval Europe and the Mediterranean (Chicago, 1987), pp. 371–463; Fernandez-Armesto, Before Columbus, op. cit., p. 15.
. Морская карта не была бесполезна для исследователей. Она давала возможность фиксировать свои открытия и передать сведения о них, накапливать информацию, на которой основывались новые инициативы; но по очевидным причинам полезность таких карт была ограничена. Они не могли помочь участникам прорыва 1490-х, поскольку те направлялись в неведомое. У Колумба во время его первого плавания через Атлантику была карта, но она была по неизбежности основана на догадках и, как выяснилось, вводила в заблуждение [1060] F. Fernandez-Armesto, Columbus, op. cit., pp. 75–76.
. За исключением, может быть, новых бочонков для воды новые технологии не играли никакой роли в распространении европейского мореплавания на весь мир. И у европейцев этого периода не было никаких преимуществ в строительстве кораблей и навигации по сравнению с морскими культурами Азии [1061] F. Fernandez-Armesto, ed., The Global Opportunity (Aldershot and Brookfield, Vt., 1995), pp. 1-93.
.
Когда вдруг объяснения, берущие за основу технологию, оказываются неудовлетворительными, исследователи часто предполагают, что причина в особенностях западноевропейской культуры. Культура — часть нечестивой троицы: культура, хаос и шляпы с загнутыми полями; именно эта троица бродит по историческим версиям, заменив традиционные теории причинности. Она дает возможность объяснить все и ничего. Атлантический прорыв — часть более значительного феномена: «подъема запада», «европейского чуда», достижения европейскими обществами господствующего положения в современной истории. Благодаря смещению традиционных средоточий власти и источников инициатив прежние центры, например Китай, Индия и исламский мир, отошли на периферию, а центрами стали Западная Европа и Новый Свет. Капитализм, империализм, современная наука, индустриализация, индивидуализм, демократия — все эти великие меняющие мир инициативы недавнего прошлого, вероятно, являются каждая по-своему изобретением обществ, чья основа — в Западной Европе. Отчасти так считают потому, что инициативам из других частей мира не уделяется должное внимание. Однако отчасти это попросту правда. Поэтому заманчиво приписать атлантический прорыв со всеми его последствиями чему-то особенному в культуре Западной Европы.
От большинства особенностей культуры, обычно называемых как доказательства, толку нет — либо потому что они не уникальны для Европы, либо потому что не сосредоточивались исключительно в тех приморских регионах Западной Европы, откуда был совершен атлантический прорыв, либо они оказываются ложными, либо, наконец, не приходятся на нужное время. Политическая культура соперничающих государственных систем существовала и в юго-восточной Азии. Как религия, совместимая с коммерцией, христианство оказывается равным джайнизму или даже уступает ему (см. выше, с. 497), некоторым буддийским традициям (см. выше, с. 488–489, 492), исламу и иудаизму наряду с другими религиями. Традиции научного любопытства и эмпирических методов были по крайней мере так же сильны в Индии и в Китае, хотя справедливо и то, что позднее в Европе и частях Америки, заселенных европейцами, формируется определенно новая научная культура [1062] A. W. Crosby, The Measure of Reality: Quantification and Western Society, 1250–1600 (Cambridge, 1997); F. Fernandez-Armesto, Truth: a History (London, 1997), pp. 120–160; J. Goody, The East in the West (Cambridge, 1996); самое широкое сопоставительное изучение «западного» и «восточного» образа мыслей можно найти в R. Collins, The Sociology of Philosophies (Cambridge, Mass., 1998).
.
Миссионерское рвение — широко распространенный порок или добродетель, и (хотя большинство историков игнорируют этот факт) ислам и буддизм прошли через стремительное распространение на новых территориях и среди новых конгрегаций примерно в тот же период, что и христианство, то есть в конце Средневековья и самом начале современного периода [1063] F. Fern&ndez-Armesto, Millennium: A History of Our Last Thousand Years (New York, 1995), pp. 283–308.
. Империализм и агрессия не являются крайностями исключительно белого человека: европейские империи современного мира и их преемницы в заселенных европейцами районах возникли в мире, полном соперничающих современников.
Интервал:
Закладка: