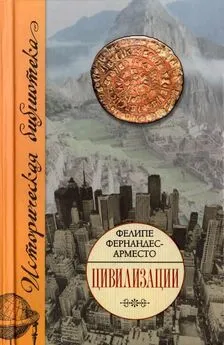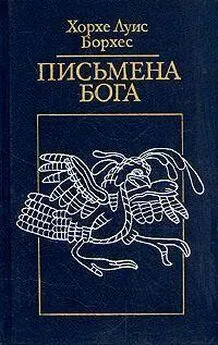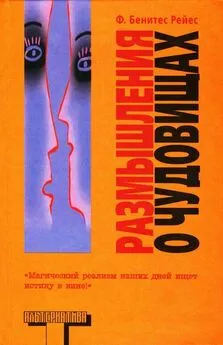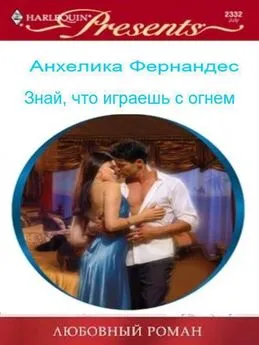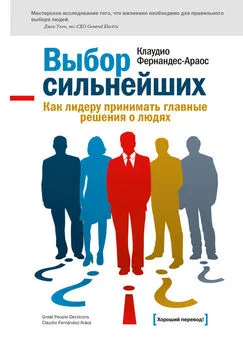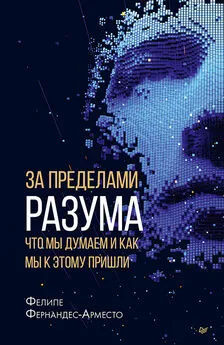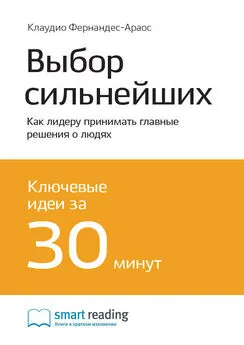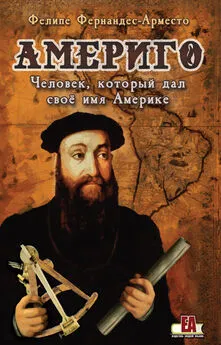Фелипе Фернандес-Арместо - Цивилизации
- Название:Цивилизации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-056644-0; 978-5-403-00426-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Фелипе Фернандес-Арместо - Цивилизации краткое содержание
Фелипе Фернандес-Арместо — известный современный историк, преподаватель Университета Миннесоты, лауреат нескольких профессиональных премий и автор международных бестселлеров, среди которых особое место занимает фундаментальный труд «Цивилизации».
Что такое цивилизация?
Чем отличается «цивилизационный» подход к истории от «формационного»?
И почему общества, не пытавшиеся изменить окружающий мир, а, напротив, подстраивавшиеся под его требования исключены официальной наукой из списка высокоразвитых цивилизаций?
Кочевники африканских пустынь и островитяне Полинезии.
Эскимосы и иннуиты Заполярья, индейцы Северной Америки и австралийские аборигены.
Веками их считали в лучшем случае «благородными дикарями», а в худшем — полулюдьми, варварами, находящимися на самой низкой ступени развития.
Но так ли это в реальности?
Фелипе Фернандес-Арместо предлагает в своей потрясающей, вызвавшей множество споров и дискуссий книге совершенно новый и неожиданный взгляд на историю «низкоразвитых» обществ, стоящих, по его мнению, много выше обществ высокоразвитых.
Цивилизации - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Молодой человек, бродивший в конце XVIII столетия где-то между центром и окраиной французской империи, как мне кажется, пришел к вдохновляющим выводам. Прошлое его благородно и трагично, привычки одновременно загадочны и привлекательны. Семья его продала право родства за наличные, но он продолжает называть себя бароном де Лаонтеном. В 1702 году он оказался в Париже, городе, где — и незадолго до того как — слово «цивилизация» впервые приобрело современное значение [15] A. Danzat, J. Dubois and H. Mitterand, Nouveau dictionnaire etymologique et historique (Paris, 1971), p. 170.
.
Обедневший бывший аристократ мечтал о своей любимой Канаде, где подростком искал счастья и где привык восхищаться естественным благородством жителей этой страны, которых называли «дикарями» (см. ниже, с. 196). «Как, — думал он, — гурон, перенесенный из своих диких лесов, отозвался бы о великолепии этого огромного города? Вырванный из своего нетронутого цивилизацией мира, с сознанием непредубежденным, незнакомым с ценностями цивилизации, гурон Лаонтена восхитился бы каменными зданиями Парижа. Но ему не пришло бы в голову, что они искусственного происхождения. Он предположил бы, что это природные скальные образования, случайно оказавшиеся пригодными для человеческого жилья. Подобное заблуждение как будто не раз становилось темой литературных произведений. Когда в начале восемнадцатого века «дикарь» с Сенилды увидел Глазго, «он заметил, что арки между колоннами церкви — самые замечательные пещеры, какие ему доводилось видеть» [16] T. Steel, The Life and Death of St Kilda (Glasgow, 1986), p. 34.
. Удивление, испытанное «дикарем», — мера расстояния между окружением, созданным людьми, и природой. Оно преодолевает пропасть между цивилизованными условиями, к которым приходится адаптироваться, и совсем иным типом общества, в котором человек эволюционирует вместе с природой.
Приведенные примеры касаются самой сути проблемы цивилизации. Я предлагаю определять цивилизацию как тип отношений с естественной средой [17] Я должен отчетливо прояснить, что не отделяю человека от природы: человек часть природы. Если язык, которым я пользуюсь, иногда отражает веру в традиционную дихотомию, то лишь по одной причине: некоторые общества придавали ей такое большое значение, что она приобретала черты реальности, то есть люди вели себя так, словно подобная дихотомия действительно существует. См. P. Coates, Nature: Changing Attitudes since Ancient Times (London, 1998); J.-M. Drouin, Reinventer la nature: Vecologie et son histoire (Paris, 1974), особенно pp. 174–193; а также P. Descola and G. Palsson, eds, Nature and Society: Anthropological Perspectives (London and New York, 1996), pp. 2-14, 63–67. Я благодарен профессору Франсу Тьюсу за предоставление мне этой работы.
, преобразованной таким образом, чтобы она удовлетворяла потребностям человека. Под цивилизацией я понимаю подобное общество. Я вовсе не утверждаю, что все цивилизации хороши (хотя некоторые из них мне нравятся) или плохи (хотя я сознаю их опасность). Один из уроков этой книги состоит в том, что цивилизации обычно чрезмерно эксплуатируют среду, часто до степени самоуничтожения. Для некоторых целей — в определенных средах сюда входит и собственно выживание — цивилизация очень рискованная и иррациональная стратегия.
Некоторые общества обходятся тем, что предоставляет им природа. Люди живут продуктами природы и населяют пространство, отведенное им природой, — или иногда строят жилища, имитирующие природные образования, из материалов, обеспечиваемых природой. Во многих случаях люди кочуют в связи с временем года. Иногда вносят небольшие изменения в среду, например углубляют или поверхностно украшают пещеры, держат в загонах или пасут нужных им животных, или для собственного удобства группируют растения, которые хотят выращивать. Реже решаются на более серьезные модификации, но только такие, которые способствуют выживанию и не должны становиться постоянными. Все подобные общества сделали по крайней мере один большой шаг в трансформации среды — научились пользоваться огнем, чтобы готовить пищу, избавляться от холода и уничтожать или воссоздавать растительность [18] J. Goudsblom, Fire and Civilization (London, 1992), pp. 2, 6–7, 23.
. Я называю такие культуры цивилизованными только в соответствии со степенью, в которой они пытаются преобразовать естественное окружение.
Но стандарты цивилизации все же устанавливают общества, бросающие природе вызов, общества, склонные к риску, социумы, которые изменяют мир для собственного удобства. Они создают окружающие ландшафты своими силами; они стараются установить в среде свой порядок. Иногда они пытаются совсем отказаться от природы, утверждая, что человек не является частью экосистемы и царство людей нисколько не соотносится с миром животных. Они пытаются «денатурализировать» человечество, выдавить из себя внутреннего дикаря, одомашнить его с помощью сложных нарядов и манер.
Шрамы, следы этой борьбы, мы видим в глубоких резких линиях, которыми цивилизация нагружает свою архитектуру, с помощью которых планирует свои поселения, оформляет сады и разделяет поля. Страсть к правильной геометрии — стремление преодолеть неровности и шероховатости природы — пропитывает всю историю человечества. В самых бескомпромиссных случаях цивилизация стремится усовершенствовать природу в соответствии с видениями пророка о конце времен, когда все углубления будут засыпаны, все холмы сглажены и все неровные места станут ровными: мир, созданный на духовном уровне, измеряется линейкой и организуется сообразно представлениям геометра.
Ради целей этой книги я предполагаю, что не существует исключительно истории человечества. История — «человеческая» наука: она слишком пропитана слезами, кровью, эмоциями и ненавистью, чтобы быть чем-то иным. Будь она «наукой» в старомодном понимании этого слова — областью изучения, в которой все происходит по неизменным законам, где предсказуемы все последствия, — я бы счел такую историю непривлекательной. Предмет науки о человечестве — человек и все человеческое достойно внимания историка. Но чтобы понять человека, его нужно увидеть в контексте с остальной частью природы. Мы не можем исключить себя из экосистемы, в которой находимся, разорвать «цепь существ», которая связывает нас со всем живым миром. Наш вид входит в огромное царство животных. И окружение, которое мы создаем для себя, вырубается, выдалбливается из того, что дала нам природа.
Таким образом, история в определенном смысле — это историческая экология. Это совсем не означает, что она должна быть исключительно материалистической, потому что многие наши взаимодействия со средой начинаются в сознании. Подобно геометрии цивилизаций, эти взаимодействия возникают в воображении и только потом воплощаются вовне. Все традиционные составляющие цивилизации основаны на идеях: города опираются на идею порядка, сельское хозяйство — на идею изобилия, законы возникли из надежды на утопию, письмо — из выдуманной символики.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: