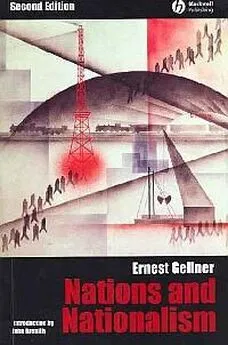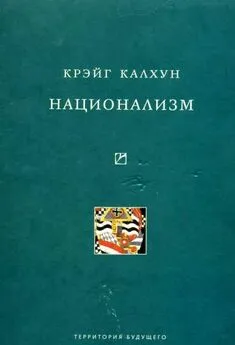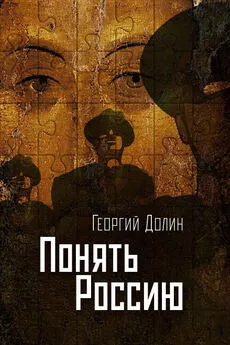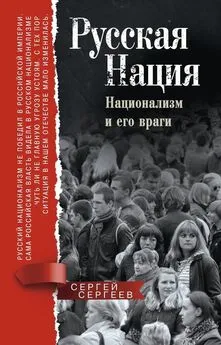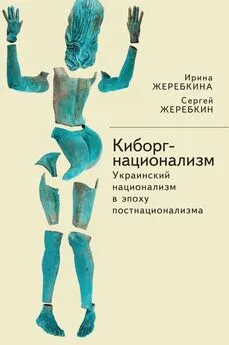Эрнест Геллнер - Нации и национализм
- Название:Нации и национализм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнест Геллнер - Нации и национализм краткое содержание
ГЕЛЛНЕР (Gellner) Эрнест (1925–1996) — профессор социальной антропологии Кембриджского университета, член Британской академии, почетный член Американской академии наук и искусств. Раскрыл роль методологической переориентации, совершенной Б. Малиновским для социальной аитропологии. Показал, каково значение позиции Л. Витгенштейна для философской мысли всего нашего столетия. Осн. работы: «Words and Things» (1959, рус. пер. «Слова и вещи. Критический анализ лингвистической философии и исследование идеологии», (1962), «Muslim Society» (1981), «Nations and Nationalism» (1983, рус. пер. «Нации и национализм», 1991), «State and Society in the Soviet Thought» (1988), «Plough, Sword and Book. The Structure of Human History» (1988) и др.
В книге «Нации и национализм» (1983) Геллнер критикует марксистскую теорию исторических формаций, основанную на определяющей роли экономики по отношению к социальной организации, и предлагает совершенно иную периодизацию истории, напоминающую скорее структуралистскую концепцию традиционных и современных обществ (см. К. Леви-Строс; Этнология), лишает понятие нации какой-либо предметной, материальной основы (территории, хозяйства, языка, культуры) и определяет ее исключительно через сопричастность, солидарность, добровольную идентификацию и разделяемое противопоставление. Так же и национализм он считает не врожденным или усвоенным чувством, а прежде всего политическим принципом, который требует совпадения политических и национальных единиц.
Нации и национализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отчасти это можно объяснить, используя введенный ранее термин, тем, что рыжий цвет волос является классическим энтропическим признаком несмотря на якобы возможные этнические связи. Физическим признакам в том случае, когда они являются генетическими, но не имеют прочных исторических или географических ассоциаций, свойственна энтропическая направленность. Поэтому если от них в некоторой степени и зависит наличие или отсутствие социальных преимуществ, то они обычно остаются социально не отмеченными. Противоположным образом лишь в Руанде и Бурунди такой показатель, как рост, очень своеобразно соотнесен с этнической принадлежностью и политическим статусом как фактически, так и идеологически в связи с тем, что завоеватели-скотоводы превосходили ростом местных земледельцев, а те и другие оказались выше пигмеев [5]. В большинстве других обществ такое соотношение слишком непрочно, чтобы иметь социальную значимость. Учащиеся Итонского колледжа [6] оказываются в среднем чуть выше остальных школьников, но никому не придет в голову относить стоящих в карауле высоких гвардейцев к высшему классу.
Физические или передающиеся генетически признаки — это лишь один из возможных видов «синевы». Есть ли другие? Крайне существенным и необычайно интересным является то обстоятельство, что некоторые глубоко укоренившиеся в нас религиозно-культурные навыки столь сильны и устойчивы, что порой могут по значению не уступать признакам, заложенным в нашей генетической конституции. Язык и формальные основы религиозных вероучений оказываются не столь глубоко заложенными в нашу культуру, и их легче сменить. Но для некоторых народов тот набор внутренних и неотъемлемых ценностей и установок, которые в аграрный век обычно неотделимы от религии (независимо от того, воплощены ли они в официальной теологической доктрине), часто оказывается настолько жизнеспособным, что продолжает действовать как яркий маркирующий знак. Например в те времена, когда Алжир был официально признан частью Франции, ассимиляции алжирских рабочих-мигрантов не мешали никакие физические или генетические различия между, скажем, кабилами [7] и крестьянами юга Франции. Непреодолимая пропасть, разделявшая два народа и препятствовавшая ассимилятивному растворению, была культурной, а не физической. Глубочайшие причины конфликта в Ольстере ни в коем случае не сводятся к коммуникативной пропасти между двумя общинами [8], они скорее связаны с приверженностью к одной из враждующих местных культур, которая является столь стойкой, что сопоставима лишь с физическими признаками, хотя в действительности имеет чисто социальное происхождение. Террористические организации, чьи теории или, скорее, лозунги являются какой-то рыхлой формой современного революционного марксизма, на самом деле пополняют свои ряды исключительно за счет сообществ, некогда четко выделенных своей религиозной верой и до сих пор определяемых культурой, глубоко связанной с данной верой.
Потрясающее и необычайно показательное событие произошло недавно в Югославии. Бывшее мусульманское население Боснии [9], прилагая напряженнейшие усилия, добилось наконец-то права называть себя «мусульманами», заполняя графу «национальность» во время переписи. Это не означало, что эти люди оставались правоверными, соблюдавшими все религиозные обряды мусульманами, и тем более не означало, что они причисляли себя к одной национальности с другими мусульманами или бывшими мусульманами Югославии, например албанцами из Косово. Они являются носителями сербохорватского языка, славянами по происхождению, но с мусульманским культурным наследием. Что они хотели подчеркнуть, так это нежелание относить себя ни к сербам, ни к хорватам (несмотря на общий с сербами и хорватами язык), поскольку это подразумевало принадлежность в прошлом соответственно либо к православным, либо к католикам. Понятие «югослав», с их точки зрения, было слишком абстрактным, обобщенным и невыразительным.
Они предпочли назвать себя «мусульманами» (и наконец-то получили на это официальное разрешение), подразумевая при этом боснийцев — славян-мусульман, ощущающих себя единой этнической группой, пусть и не отличающейся лингвистически от сербов и хорватов, хотя отличающее их вероисповедание в настоящее времяими утрачено. Судья Оливер Уэнделл Холме однажды заметил, что для того, чтобы считаться джентльменом, не обязательно знать латынь и греческий — важно их забыть. В наши дни, чтобы быть боснийцем-мусульманином, не обязательно верить, что нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет — его Пророк [10], скорее необходимо утратить веру в это. Момент перехода от религии к культуре, к ее соединению с этнической принадлежностью и в итоге с государством очень тонко проиллюстрирован репликой из пьесы Антона Чехова «Три сестры», где дан классический пример роли военных в развивающейся стране:
Тузенбах: «…Вы, небось, думаете: расчувствовался немец. Но я, честное слово, русский и по-немецки даже не говорю. Отец у меня православный…»
Барон, несмотря на свою тевтонскую фамилию и, вероятно, происхождение, отстаивает свою славянскую принадлежность, ссылаясь на приверженность Православной церкви.
Это вовсе не означает, что всякая религия доиндустриальной эпохи будет пытаться предстать в новом облике этнической единицы в «плавильном котле» индустриальной цивилизации. Такой взгляд был бы абсурден. С одной стороны, как в случае с языком или культурными различиями, аграрный мир часто даже перенасыщен религиями. Их было слишком много. Их число значительно превышало число этнических групп и национальных государств, которые в состоянии вместить в себя современный мир. Поэтому всем им и не удалось сохраниться (даже видоизменившись, в качестве этнических единиц), сколь бы прочными они ни были. Более того, так же как и языки, многие из них оказались не такими уж жизнестойкими. Только высшие религии, подкрепленные письменной традицией и особым слоем служителей, иногда, но отнюдь не во всех случаях становятся в индустриальном мире основой новой групповой идентификации, осуществляя переход, если можно так выразиться, от культуры-религии к культуре-государству. Таким образом, в аграрном мире высокая культура сосуществует с низкими культурами и нуждается в церкви (или по крайней мере в группе профессиональных служителей), которые бы поддерживали ее существование. В индустриальном обществе преобладают высокие культуры, но они нуждаются в государстве, а не в церкви, причем в государстве нуждается каждая из них в отдельности. Это одно из объяснений происхождения эпохи национализма.
Высокие культуры имеют тенденцию становиться основой новой национальности (как было в Алжире), где в преддверии национализма религия отделяла достаточно четко все непривилегированные классы от привилегированных даже или в особенности тогда, когда непривилегированные не имели никаких других общих отличительных характеристик (таких, как язык или общая история). По мнению Фархата Аббаса [11], одного из первых виднейших вождей национального движения в Алжире, алжирской нации не существовало до начала национального пробуждения в этом столетии. Существовало обширное исламское сообщество и целый ряд более мелких сообществ, но ничего общего с теми жителями, что заселяют сегодняшнюю национальную территорию. В такой ситуации действительно рождается новая нация, которая может быть определена как общность, включающая всех приверженцев определенной веры на определенной территории. (В наши дни в случае с палестинцами язык, культура и общие беды, а не общая религия служат причиной подобной кристаллизации.) Для того чтобы играть диакритическую, определяющую нацию роль, религия должна фактически полностью видоизмениться, как это и случилось в Алжире: в XIX веке алжирский ислам с его преклонением перед божественным посредничеством, преследуя практические цели, вбирал в себя сельские верования и культы святых. В XX веке ислам отмел все это, отождествившись с реформированным Письменным законом, отрицающим какое бы то ни было посредничество между человеком и Богом. С помощью культов выделялись племена и очерчивались их границы, с помощью письменного учения могло осуществиться и осуществилось выделение нации.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: