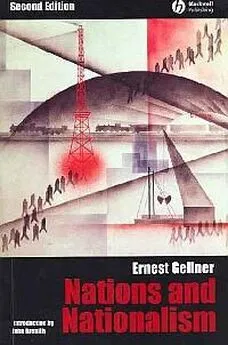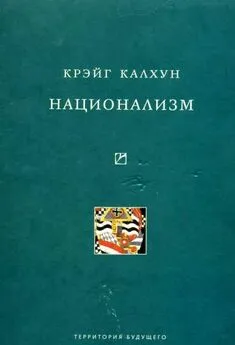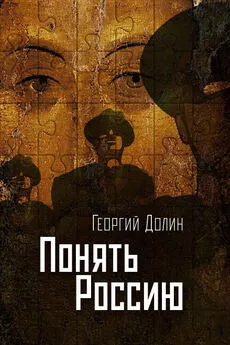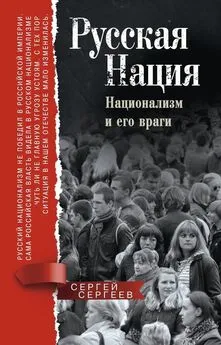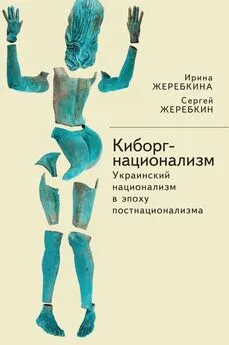Эрнест Геллнер - Нации и национализм
- Название:Нации и национализм
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Прогресс
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эрнест Геллнер - Нации и национализм краткое содержание
ГЕЛЛНЕР (Gellner) Эрнест (1925–1996) — профессор социальной антропологии Кембриджского университета, член Британской академии, почетный член Американской академии наук и искусств. Раскрыл роль методологической переориентации, совершенной Б. Малиновским для социальной аитропологии. Показал, каково значение позиции Л. Витгенштейна для философской мысли всего нашего столетия. Осн. работы: «Words and Things» (1959, рус. пер. «Слова и вещи. Критический анализ лингвистической философии и исследование идеологии», (1962), «Muslim Society» (1981), «Nations and Nationalism» (1983, рус. пер. «Нации и национализм», 1991), «State and Society in the Soviet Thought» (1988), «Plough, Sword and Book. The Structure of Human History» (1988) и др.
В книге «Нации и национализм» (1983) Геллнер критикует марксистскую теорию исторических формаций, основанную на определяющей роли экономики по отношению к социальной организации, и предлагает совершенно иную периодизацию истории, напоминающую скорее структуралистскую концепцию традиционных и современных обществ (см. К. Леви-Строс; Этнология), лишает понятие нации какой-либо предметной, материальной основы (территории, хозяйства, языка, культуры) и определяет ее исключительно через сопричастность, солидарность, добровольную идентификацию и разделяемое противопоставление. Так же и национализм он считает не врожденным или усвоенным чувством, а прежде всего политическим принципом, который требует совпадения политических и национальных единиц.
Нации и национализм - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Благодаря ружью и Писанию с их централизаторскими возможностями две эти этнические группы стали главенствующими в политической истории обширного региона, хотя ни одна из них не была численно доминирующей. Другие этнические группы, лишенные подобных преимуществ, в частности оромо (обычно более известные как галла), не могли соперничать с ними.
В семидесятые годы нашего столетия, когда сомалийцы одержали временный успех, вторгшись в Эфиопию, им было удобно и выгодно выдавать оромо за еще несформировавшееся этническое сообщество, представляющее собой некое доэтническое сырье, ожидающее превращения либо в амхара, либо в сомалийцев путем изменения политической судьбы или с помощью религиозного обращения. Это как бы оправдывало смысл их «сомализации», если таковая пошла бы успешно. Оромо представлялись некой огромной популяцией из Адамов и Ев, которые, еще не отведав этнического яблока, были прикрыты лишь рудиментарным фиговым листком социальной организации на основе возрастных классов. При условии объединения с государством амхара их вожди должны были стать официальными чиновниками, а следовательно, христианами и амхара, но попав в сферу влияния сомалийцев они бы были приобщены к исламу именем культов великих местных святых, что соответственно означало бы начало сомализации. Как известно, Сомали потерпело в этой войне поражение, но поддержка сопротивления господству амхара на Африканском Роге во многом связана с оживлением различных национально-освободительных движений, возникавших внутри самой Эфиопской империи, включая и движение оромо, которые, будучи наиболее многочисленной группой, имели здесь и наибольшее влияние. Поэтому едва ли нам когда-либо удастся вновь услышать, что они представляют собой докультурное, доэтническое сырье.
Если тюрьма народов когда-либо существовала, то ею была именно империя амхара. В 1974 году после низвержения старого императора [17] новые правители повели себя так, как и положено новым правителям, то есть немедленно признали равенство всех этнических групп и дали им право самим решать свою судьбу. Эти вызывающие восхищение свободолюбивые устремления весьма скоро стали сопровождаться систематическим истреблением интеллектуалов из среды неамхарских народов — политика, удивительно разумная с точки зрения торможения оппозиционных националистических движений в империи [24] CM.: Lewis loan. The Western Somali Liberation Front (WSLF) and the legacy of Sheikh Hussein of Bale. — J. Tubiana (ed.). Modern Ethiopia. Rotterdam, 1980, а также: I.M.Lewis (ed.). Nationalism and Selfdetennination in the Horn of Africa. Indiana, 1983.
.
Оба эти жесточайших и на данный момент доминирующих вида национализма иллюстрируют преимущество доступности старой высокой культуры — в прошлом, неоценимого достоинства для формирования государства, но и сейчас остающегося необходимым условием придания политического смысла этничиости. В каждом из этих случаев соответствующая этническая группа занимает свою территорию и исповедует свою религию, что в большой мере способствует самоопределению.
Интересно также, что сомалийцы являются примером (как и курды) смешения старой племенной и общественной структуры с новым анонимным национализмом, основывающимся на общей культуре. Сильное и устойчивое ощущение связи с родовыми культами, несмотря на их официальное осуждение и запрет, играет весьма существенную роль в понимании их внутренней политики. Это, как мне кажется, не противоречит нашей общей теории, утверждающей, что принадлежность современного человека к общей письменной культуре («национальности») есть следствие разрушения старых структур, некогда охранявших индивидуальность, достоинство и материальную независимость каждой человеческой личности, тогда как теперь для того, чтобы обладать этими качествами, она нуждается в образовании. У сомалийцев есть общая культура, которая, обретая свое собственное государство (что и происходит в действительности), сможет обеспечить каждому сомалийцу место в государственном учреждении. Перспективы и личное положение каждого сомалийца в таком государстве, основанном на собственной культуре, будут значительно лучше, чем в соседнем государстве с другой культурой. В то же время многие сомалийцы продолжают оставаться скотоводами, соблюдая интересы, нашедшие отражение в старом скотоводческом праве, и поддерживают взаимовыгодные связи со своими сородичами, связи, которые не порвались окончательно в перипетиях политической жизни.
Подвести итог всему вышесказанному можно следующим образом: в большинстве случаев призыв к новой, обретенной с помощью образования этнической принадлежности имеет свои «за» и «против» — притягательность новых возможностей занятости и боязнь разрушения старых, обеспечивающих безопасность, родовых группировок. Случай сомалийцев не единственный, хотя и особенно показательный. Устойчивость скотоводства и определенные виды трудовой миграции или торговых связей могут быть причиной выживания большого родового образования в современном мире. Когда это происходит, мы можем наблюдать противопоставление племенной преданности структуре и национальной преданности культуре (и письменной культуре в том числе). Но едва ли можно представить себе, чтобы современный мир мог возникнуть повсеместно, удерживая устойчивые социальные миниобразования. Все великие истории о том, как проходило успешное экономическое развитие, связаны с обществами, где богатство и власть указывали человечеству путь к новому образу жизни; и эти истории должны были быть и были совсем иного рода.
Общий переход к современной стадии развития осуществлялся путем разрушения многочисленных мелких местных образований и их замены мобильными, анонимными, письменными, самоопределившимися культурами. Это необходимое условие, лежащее в основе закономерности и распространенности национализма, но в то же время оно не противоречит случайному смешению двух типов преданности или использованию по возможности родовых связей для своеобразного, паразитического и частичного приспособления к новому порядку. Управление современной промышленностью может быть патерналистским или зависеть от семейных связей на самом верху иерархии, но такая промышленность не может образовывать свои производственные единицы на основе родственных или территориальных принципов, как это делало родовое общество.
Различия между культурно-опосредованным национализмом и структурно-опосредованным племенным строем нарисованы здесь мною, разумеется, с целью простого анализа различий между двумя объективно различными типами организации. Их нельзя смешивать с релятивистским или чисто эмоциональным противопоставлением моего национализма твоему трайбализму (племенной идеологии. — Ред.). Это был бы тот самый язык восхваления или порицания, с помощью которого ведут борьбу соперничающие друг с другом потенциальные национализмы и на котором слова «Я — патриот, ты — националист, а он — трайбалист» остаются таковыми, независимо от того, кем они будут произнесены.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: