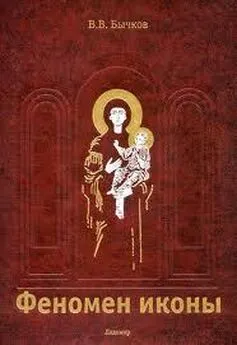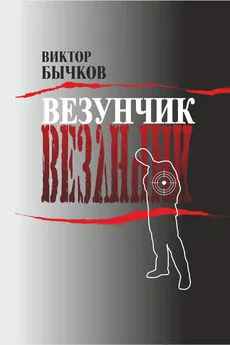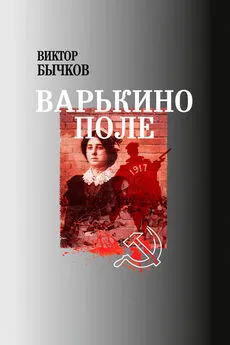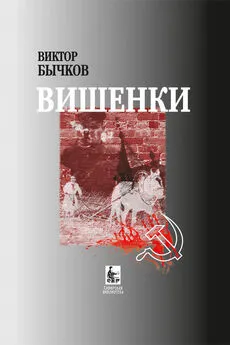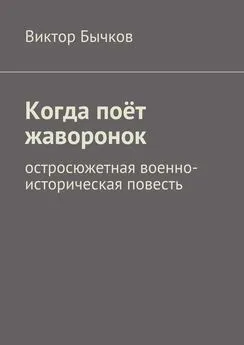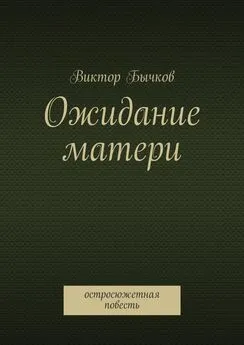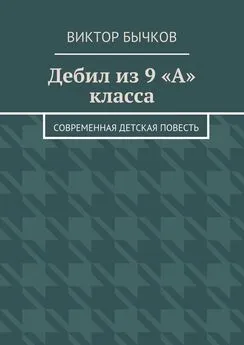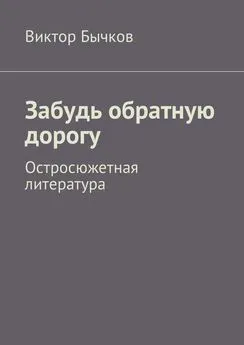Виктор Бычков - Феномен иконы
- Название:Феномен иконы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Ладомир
- Год:неизвестен
- Город:Москва
- ISBN:ISBN: 978–5–86218–488–4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Бычков - Феномен иконы краткое содержание
Феномен иконы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Важную роль в организации художественного пространства играли в Византии условно изображенные элементы архитектуры и «пейзажа». Занимая нередко большую часть изобразительной поверхности, архитектура и «пейзаж» вторили или противоречили духу, настроению, пластическому звучанию основных фигур. Обычно горный пейзаж в византийской живописи, особенно в иконе, — это некоторая вогнутая, дробная поверхность, воспринимаемая почти как вертикальная кулиса. Эта стена горок выдвигает основное действие на первый план (из–за них иногда выглядывают второстепенные персонажи), замыкает его в себе как нечто важное и самодовлеющее, обособленное и выделенное из всего окружающего мира. Своей цветовой нагрузкой, ритмикой масс и линий, системой сдвигов поверхностных слоев горки тесно связаны со всей остальной художественной тканью произведения и играют важную роль в организации эстетического эффекта.
При этом, если в ранне– и средневизантийский периоды горки изображаются, как правило, в виде достаточно монолитных, плотных, массивных по цвету и форме образований, то в XIV—XV вв. усиливается внимание к их абстрагирующей проработке, как неких дробных изощренно–изысканных полуабстрактных (почти конструктивистско–кубистических) структур с предельно расщепленными вершинами, уступами, расщелинами и т. п. изобразительными элементами, которые на Руси приобрели специальное иконописное именование лещадок [94] От древнерусского слова «лещадь (лещедь)» — колотый на слои камень, скол горной породы, обтесанные каменные плитки.
. Подобные горки, написанные с особым артистизмом, мы видим, например, в росписях храма монастыря в Дечанах (Сербия, 1335—1350 гг.) или в церкви Богоматери–Перивлепты в Мистре (Греция, 1360—1370 гг.) и в ряде других храмов и во многих иконах. Особой, почти эстетской изощренности писание горок и лещадок достигло в палеологовский период в Византии и в древнерусской иконописи XVI—XVII вв. (в частности, в так называемых строгановских письмах — XVII в.).
В сцене «Жены–мироносицы у гроба Господня»вхудожественном отношении играют ничуть не меньшую роль, чем сама сюжетная композиция. Являясь, с одной стороны, монолитной кулисой, выдвигающей действие на передний план и как бы выталкивающей его на зрителя, они, с другой стороны, создают активный художественный фон. Их стилизованные тонко и с большой любовью и изобретательностью прописанные расщепленные вершины с лещадками, изысканно решенные в цветовом и конструктивном отношениях, создают своего рода живописно–пластическую фугу, которая на многих уровнях разрабатывает в чисто формально–выразительном плане основную тему изображения — удивление, растерянность и радостную надежду жен–мироносиц и учеников Христа.
Темный фон неба, на котором изображены вершины горок с высветленными лещадками, подчеркивает их художественную значимость столь же энергично, как и темный фон пещеры выявляет символику белой фигуры ангела на гробе или белоснежных пустых пелен воскресшего Иисуса. В контексте строго монастырского богослужения эффект воздействия чисто художественной пластики этого изображения многократно усиливается, способствуя проникновению духа участников богослужения в пространства вневременных и внепространственных (в земном понимании) измерений.
С подобным же художественным приемом мы встречаемся и в росписях храма Перивлепты в Мистре, особенно в наиболее сохранившихся сценах «Крещения/Богоявления» и «Рождества Христова». Здесь горки занимают большую часть изображения. В «Рождестве» они представляют собой мощную, тщательно проработанную пластическую симфонию, прославляющую свершившееся великое событие. Фигуры людей, ангелов, животных имеют здесь подчиненное горной (или горней\) симфонии значение в качестве неких цветоритмических вокальных голосов. Резким диссонансом во всем этом ликующем многоголосии звучит только голос темного диагонально расположенного почти в центре композиции вытянутого пятна фигуры Богоматери. В отличие ото всех остальных фигур и многих лещадок горок, устремленных в едином пластическом порыве к яслям с рожденным Младенцем, его Мать отвернулась от Него и траурным цветом своей одежды как бы уже оплакивает предстоящие Ему на земле страдания и мученическую смерть.
Не менее, если не более активную роль в художественных структурах византийской живописи, чем горки, играет и предельно условно написанная архитектура. Византийцы практически никогда не изображали действие происходящим в интерьере, во всяком случае так, как мы привыкли это видеть в новоевропейском искусстве. Это, с одной стороны, связано с обостренным ощущением средневековым живописцем вневременности и внепространственности изображаемого явления, принадлежности его не конкретному тъарному пространству, а некой вневременной духовной сфере. С другой — является следствием общей тенденции византийского художественного мышления к условно–обобщенным приемам изображения, выработанным в системе глубоко символического и даже апофатически–символического (в монастырской среде, к которой принадлежали многие византийские иконописцы) миропонимания. Отсюда архитектура фона иногда, когда это известно из литературного источника, может восприниматься как символическое указание на то помещение, в котором происходит изображаемое действие. Однако в византийском искусстве этот чисто иллюстративный момент играл, как правило, предельно второстепенную роль. На первом плане всегда находилось художественно–пластическое (равно художественно символическое [95] О смысле понятия «художественный символ» подробнее см.: Бычков В.В. Эстетика. М., 2006. С. 291 и сл.
) звучание (значение) архитектурных элементов в целостном иконном образе.
Так, в росписях Королевской церкви (ктитор — сербский король Милутин) монастыря в Студенице (нач. XIV в.) живописцы уделили много внимания архитектурным кулисам (подчеркну еще раз, что эта тенденция вообще была характерна для развитой византийской живописи). Например, в сцене «Рождества Богородицы» причудливая архитектура занимает весь задний план изображения, символизируя палаты, в которых происходит событие. Однако ее роль, естественно, не сводится только к этому. Главное значение архитектурных кулис в византийском искусстве то же, что и горного «пейзажа» — активно участвовать в создании целостного пространственно–пластического динамического (развивающегося в пространстве восприятия) полифонически звучащего изображения. Сложные, построенные чаще всего в обратной и параллельной перспективах причудливые элементы архитектурных сооружений (фантастические порталы, башенки, ничего не поддерживающие колонны, какие–то немыслимые своды, бесконечно длящиеся стены с окнами и без них, странные арки и обязательные велумы — матерчатые завесы) играют существенную роль в организации общего пластически–цветового ритма, в акцентации тех или иных групп действующих лиц, в создании соответствующего настроения изображения, его композиционной ритмики и т. п. Всё это практически не поддается вербальному описанию, но хорошо ощущается при непосредственном восприятии. В частности, — и в уже упомянутой сцене «Рождества Богоматери» из Студеницы, и во многих других византийских памятниках. Архитектурные кулисы и горный «пейзаж» — это одни из тех изобразительных пространств византийского искусства, где средневековый художник мог дать волю своей творческой фантазии, и он давал ее в полной мере.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: