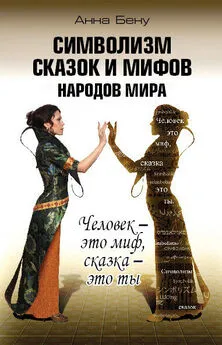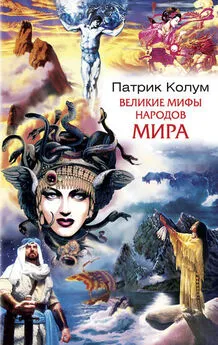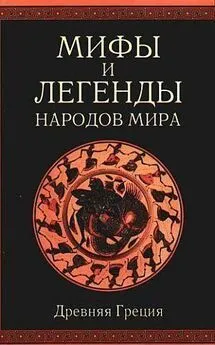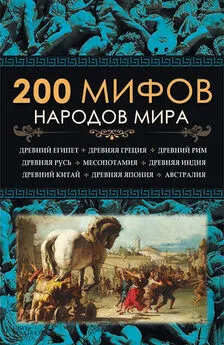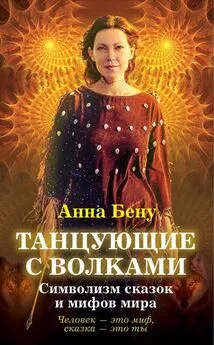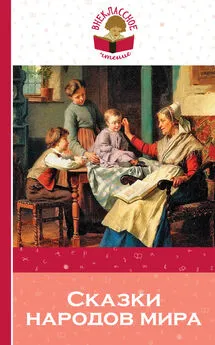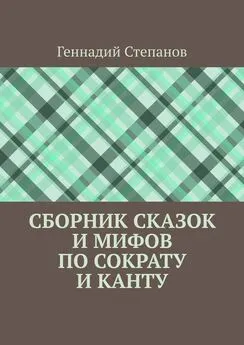Анна Бену - Символизм сказок и мифов народов мира. Человек – это миф, сказка – это ты
- Название:Символизм сказок и мифов народов мира. Человек – это миф, сказка – это ты
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Алгоритм
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9265-066
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Бену - Символизм сказок и мифов народов мира. Человек – это миф, сказка – это ты краткое содержание
Книга Анны Бену посвящена изучению зашифрованного языка сказки и мифа. В книге дается интерпретация сказочных героев и чисел, волшебных предметов, природных ландшафтов и явлений, символика цвета, стихий, времен года, растений и животных. Сказка и миф – способ заглянуть в самого себя, обнаружить там волшебников и добрых фей, злобных драконов и коварных ведьм, найти в себе героя, побеждающего иллюзии и обретающего мудрый опыт.
Книга адресована всем интересующимся философией и символизмом сказочно-мифологического мышления народов мира, преподавателям школ и вузов, студентам, родителям.
Символизм сказок и мифов народов мира. Человек – это миф, сказка – это ты - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В сказке о трех царствах мать-царица не преображается, она погибает, но ее место занимают другие качества эмоциональной сферы, более прекрасные – царевны медного, серебряного и золотого царств. Погибает царица, так как оказавшись в царстве стихийного, хаотичного начала, она уподобилась ему, стремясь содействовать уничтожению позитивного начала – Ивана-сознания. Оказавшись в царстве иллюзий, царица, в отличие от Ситы, живет в жемчужном царстве, ни от чего не отказываясь, т.е. уподобляясь иллюзиям.
«Отец-старик» – это старое инертное сознание, представляющее собой «застывшие и окаменевшие доктрины и формулы» ( Мария-Луиза фон Франц), хочет жениться на царевне золотого царства – источнике истины в душе. Истина не уживается с догмами и рамками, так как сама границ не имеет. Эти два начала – красота истины и концепции не аналогичны друг другу, поэтому соединиться в плодотворном союзе не могут.
– Тогда пойду за тебя, когда сошьешь мне башмаки без мерки.
Царь приказал клич кликать, всех и каждого выспрашивать: не сошьет ли кто царевне башмаков без мерки?
На ту пору приходит Иван-царевич в свое государство, нанимается у одного старичка в работники и посылает его к царю:
– Ступай, дедушка, бери на себя это дело. Я тебе башмаки сошью, только ты на меня не сказывай.
Старик пошел к царю:
– Я-де готов за эту работу взяться.
Царь дал ему товару на пару башмаков и спрашивает:
– Да потрафишь ли ты, старичок?
– Не бойся, государь, у меня сын чеботарь.
Воротясь домой, отдал старичок товар Ивану-царевичу; тот изрезал товар в куски, выбросил за окно, потом растворил золотое царство и вынул готовые башмаки:
– Вот, дедушка, возьми, отнеси к царю.
Царь обрадовался, пристает к невесте:
– Скоро ли к венцу ехать?
Царевна – возвышенная одухотворенная душа, дает задание сшить башмаки без мерки.
Башмачки золотого царства
Башмаки носят на ногах. Ноги даны для передвижения, поэтому они символ пути (см. «Три пары железных башмаков»). Башмаки из золотого царства – это стези благоухающей истины. Иван изрезал ткань на башмаки, данную старым царем, т.е. ищущее и обновленное сознание отвергает материю старого разума, старых концепций, которыми пути к истине не проложишь. Башмаки без мерки – красоту истины в душе невозможно измерить, так как природа ее бесконечна и безгранична. Иван растворяет золотое царство, а оно как мы помним, в виде золотого клубочка, золотой сферы. Из сферы истины души, которую герой извлек из глубин неосознанного, сознание берет башмаки – волшебные шаги одухотворенной психеи, путь возвышенной души.
Царевна отвечает:
– Тогда за тебя пойду, когда сошьешь мне платье без мерки.
Царь опять хлопочет, собирает к себе всех мастеровых, дает им большие деньги, только чтоб платье без мерки сшили. Иван-царевич говорит старику:
– Дедушка, иди к царю, возьми материю, я тебе платье сошью, только ты на меня не сказывай.
Старик поплелся во дворец, взял атласов и бархатов, воротился домой и отдал царевичу. Иван-царевич тотчас за ножницы, изрезал на клочки все атласы и бархаты и выкинул за окно; растворил золотое царство, взял оттуда что ни есть лучшее платье и отдал старику:
– Неси во дворец!
Сшить платье без мерки– соткать покровы неизмеримой глубине одухотворенной души. Что есть ее золотые покровы? Это прекраснейшие чувства – любви, милосердия, вдохновения, радости, в которые облекается истина и предстает в доступном пониманию образе. Атласы и бархаты застывших концепций и догм «я-сознание» уничтожает, извлекая из злотого клубочка-царства то, что золотой психее принадлежит.
Царь радехонек:
– Что, невеста моя возлюбленная, не пора ли нам к венцу ехать?
Отвечает царевна:
– Тогда за тебя пойду замуж, когда возьмешь старикова сына да велишь в молоке сварить.
Царь не задумался, отдал приказ – и в тот же день собрали со всякого двора по ведру молока, налили большой чан и вскипятили на сильном огне.
Привели Ивана-царевича; начал он со всеми прощаться, в землю кланяться; бросили его в чан: он раз нырнул, другой нырнул, выскочил вон – и сделался таким красавцем что ни в сказке сказать, ни пером написать. Говорит царевна:
– Посмотри-ка, царь! За кого мне замуж идти: за тебя ли, старого, или за него, доброго молодца?
Царевна не соглашается соединиться со старым отжившим инертным сознанием, но только с таким, которое способно проложить стези возвышенной красоты (башмаки без мерки) и соткать покровы для светлых чувств (платье без мерки).
Молоко. Сварить в молоке
Белый цвет молока в противоположность черному цвету, ассоциируется с идеей чистоты, неопятнанности. Молоко – пища младенцев человека и животных.
Мотив погружения героя в кипящее молоко сравним с мотивом «творения-пахтания мира (космогонический контекст), с одной стороны, и с представлениями о зарождении и утробном развитии ребенка (эмбриогонический контекст) – с другой.
В связи с мотивом отвердения, сгущения, создания материальной основы, предшествующей появлению человека, следует отметить выражение «сырое молоко», обозначающее молозиво – густое молоко до и после родов. Такое молоко осмысляется как продукт творожения (в народных говорах сыром часто называют творог) и служит верным признаком зарождения новой жизни; сам плод выступает как своего рода результат «створаживания» (сгущения) молока. Этот мотив эксплицитно выражен в загадках о беременности, которая описывается в «творожных» терминах: «Под полом, полом стоит кринка с творогом». Ассоциации формирования Творцом тела человека с творожением встречаются в Книге Иова: «Не ты ли вылил меня, как молоко, и, как творог, сгустил меня; кожею и плотию одел меня, костьми и жилами скрепил меня» (Иов. 10: 10 – 11).
Продолжение этой темы обнаруживается и в свадебной обрядности. В Вятской губ. в церковь (на венчание) привозили сыр с целью обеспечения деторождения (ср. выражение «Сыр забыли в церкви, молодушка безребятница будет»); в Московской губ. обряд одаривания молодых называется сыром обносить, сыр молить; угощение на второй день свадьбы носит название сырный день, сырный стол, сырный обед. Отметим также обычай преподнесения почетного сыра зятьям в Петров день на второй год брака (Архангельская губ.) и имеющий более сложные причинно-следственные связи словацкий обычай кормить девочек сваренным и, вследствие этого, похожим на творог молоком, чтобы отелилась корова.
В свете сказанного вряд ли можно назвать случайным существование устойчивого сравнения ребенка с сыром в русских и белорусских свадебных песнях: «(…) Роди ты мне сына; / Как белаго сыра (…)»; «(…) Ражу тебе сына / Як белыга сыра (…)» ( Д. А. Баранов, Б. Л. Мадлевская. «Образ лягушки в вышивке и мифопоэтических представлениях восточных славян»).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: