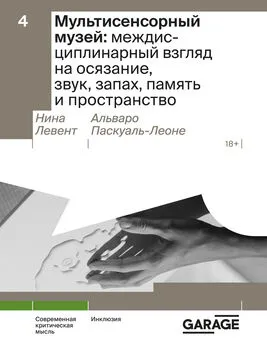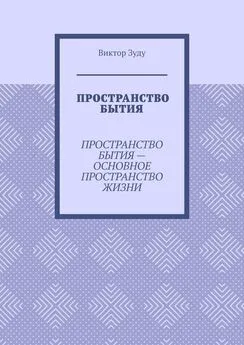Валерий Леонов - Пространство библиотеки: Библиотечная симфония
- Название:Пространство библиотеки: Библиотечная симфония
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2003
- Город:Москва
- ISBN:5-02-006304-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валерий Леонов - Пространство библиотеки: Библиотечная симфония краткое содержание
Данная книга продолжает объединённые единством темы книги В.П. Леонова «Библиотечный синдром. Записки директора БАН» (1996) и «Судьба библиотеки в России. Роман-исследование» (2000). Размышления автора вновь напоминают нам, что каждая библиотека призвана раскрыть перед читателем мир знаний и выполнить главное своё предназначение — обратить человека внутрь себя, дать возможность измениться и продолжить движение вперёд. Обозначившее жанр и структуру книги слово «симфония» может быть истолковано и в значении «гармония», «согласие». Сегодня без признания библиотеки как социального института, сохраняющего культурную память человечества, невозможен процесс гармонизации личности, общества в целом.
Книга будет интересна не только библиотекарям-профессионалам, но и представителям других сфер деятельности. Всем, кто может себя отнести к читателям, обитающим в Пространстве Библиотеки.
Пространство библиотеки: Библиотечная симфония - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Молодые студенты занимались этими упражнениями по шести часов в день; и профессор показал мне множество томов in-folio, составленных из подобных отрывочных фраз; он намеревался связать их вместе и из полученного таким образом материала дать миру полный компендий всех искусств и наук; эта работа могла бы быть, однако, ещё более улучшена и значительно ускорена, если бы удалось собрать фонд для сооружения пятисот таких станков в Лагадо и сопоставить фразы, полученные на каждом из них.
Он сообщил мне, что это изобретение с юных лет поглощает все его мысли, что теперь в его станок входит целый словарь и что им точнейшим образом высчитано соотношение числа частиц, имён, глаголов и других частей речи, употребляемых в наших книгах.
Я принёс глубочайшую благодарность этому почтенному мужу за его любезное посвящение меня в тайны своего великого изобретения и дал обещание, если мне удастся когда-нибудь вернуться на родину, воздать ему должное, как единственному изобретателю этой изумительной машины…».
После Свифта возвратимся в конец XX столетия, к ещё одному занимательному проекту, связанному с созданием книги. Американский писатель, профессор университета Браун в Нью-Йорке Роберт Кувер в статьях «Конец книг» (The End Books) и «Гиперлитература: Рассказы для компьютера» (Hyperfiction: Novels for Computer) на страницах газеты «The New York Times» (1992. June 21; 1993. August 29) рассуждает о явлении, возникшем в Америке и распространившимся на Европу и Японию. Дело в том, пишет автор, что электронная форма представления текста с использованием гипертекстовой технологии даёт возможность читателю самому создавать многочисленные варианты и свои версии произведения, позволяет, другими словами, стать творцом текста. «Гипертекст, — формулирует Р. Кувер, — это электронный текст, написание и чтение которого осуществляется на компьютере, где не властен порядок типографской печати, его тирания и его ограничения, поскольку текст существует в нелинейном пространстве, создаваемом процессором. В отличие от печатного текста с однонаправленным движением вместе с перелистыванием страниц, гипертекст — радикально иная технология, интерактивная и многоголосная, которая утверждает плюрализм дискурса над строго определённой фиксацией текста» [119].
Скажу сразу: я не против гипертекста и считаю, что при автоматическом построении и анализе научных текстов он крайне полезен и просто необходим. Например, при реферировании, составлении личных конспектов и сводных рефератов-подборок по аспектам содержания, приоритетным для пользователя (методы, подходы, результаты, выводы и др.). Вопрос в том, захочет или не захочет обычный читатель использовать эти технологии, что принесёт ему такая свобода творчества? Чтобы не углубляться в комментарии, сошлюсь на мнение писателя Умберто Эко (я с ним согласен), которое он высказал в своей лекции в МГУ 20 мая 1998 г.:
«Я хочу окончить лекцию панегириком тому конечному и ограниченному миру, который открывают нам книги. Вы читаете «Войну и мир» и отчаянно надеетесь, что Наташа не примет ухаживаний этого жалкого негодяя Анатоля. Вы отчаянно надеетесь, что этот восхитительный князь Андрей не умрёт и что они с Наташей проживут долго и счастливо. Будь «Война и мир» на гипертекстуальном интерактивном диске, вы могли бы переписать сюжет и создать бесконечное число «Войн и миров», Пьеру Безухову удалось бы убить Наполеона или же, если ваши историко-политические симпатии иные, Наполеону удалось бы сразить Кутузова.
Но против книги делать нечего. Вам остаётся принять закон Рока и почувствовать неотвратимость Судьбы. Гипертекстуальный и интерактивный роман даёт нам свободу и творчество, и будем надеяться, что эти уроки творчества будут иметь место в школах будущего. Но «Война и мир» подводит нас не к бесконечным возможностям Свободы, а к суровому закону Неминуемости. Чтобы быть свободными, мы должны пройти этот урок жизни и смерти, и только книги способны передать нам это знание» [120].
И ещё одна непростая проблема для виртуального пространства: «… я не думал, — констатировал в 2001 г. писатель-фантаст Станислав Лем, — что мир будет развиваться такими темпами. Не учёл я и патологических изменений, которые может нести с собой прогресс… Нас заливает подлинный информационный потоп. В нём огромное количество пустого шума, информационного мусора. Несчастных читателей и зрителей стремятся заманить самыми различными способами… Например, появляется поток новых книг, которые вытесняют ранее написанные, пусть даже обладающие высокими достоинствами, на какое-то кладбище книг, обрекают их на забвение. Если кто-нибудь напишет произведение, которое окажется способным циркулировать на рынке в течение каких-то 40 лет, — то это почти живой классик!» [121].
Как в этой ситуации будет осуществляться учёт, пополнение и документальная проверка фондов, их списание? Опять повторяю свой один и тот же «наивный» вопрос: кем становится библиотекарь? Ответственным хранителем знания «без субъекта знания» или простым распределителем информации, диспетчером на сервере?.. [122]Сделаю небольшое отступление.
Неоднократно спрашивал себя, какая черта нашей профессии не то что главная, а та, которая помогает нам выстоять, казалось бы, в безнадёжных ситуациях и не только выстоять, но и сохранить надежду на лучшее? Говорят, что мы, библиотекари, консервативны. Это правда, и это справедливо не только для России, но и для остального мира. Я в этом неоднократно убеждался. Но, перефразируя классиков ленинизма, есть консерватизм и есть консерватизм! Профессиональный библиотечный консерватизм изначально строится на идее сохранения накопленного веками книжного богатства, желании не причинить ему вреда, предохранить от разрушений и гибели, защитить от нападок дилетантства и некомпетентности. Или, более лаконично: консерватизм библиотекарей есть способ защиты от некомпетентности . Наша профессия формирует особый психологический тип работника: открытого, лишённого агрессивности, выдержанного, настроенного на диалог и желающего понять, что говорит и, главное, что хочет от нас читатель. Наш консерватизм — это сдержанная реакция на нововведения и вторжение в библиотечное дело новых технологий. Исторический опыт свидетельствует, что за этим стоят поиски места под одной крышей библиотекарей и специалистов других областей знаний, поиски оптимальных вариантов сосуществования разных носителей информации, повышающих, в конечном счёте, комфортность библиотечной среды.
Факт, который должен нас удивлять, если бы мы к нему не привыкли. Как получается, что существуют люди, считающие нашу профессию третьестепенной? Предполагается a priori, что большинство, посещающих библиотеки, занимаются, скажем, научной работой, пользуются услугами библиотекарей-библиографов и должны это понимать. И тем не менее, лишь немногие понимают важность нашей работы.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
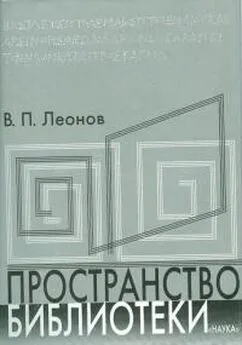

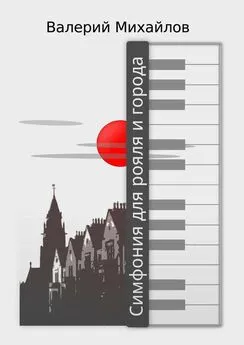
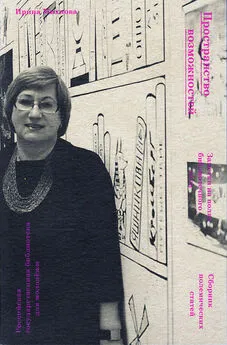
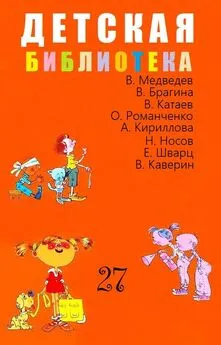
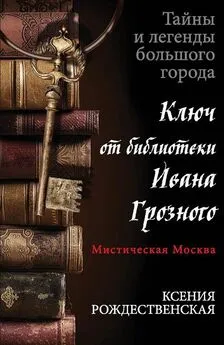
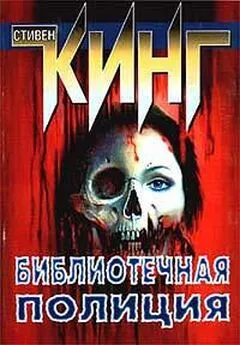
![Кадзуо Кобаяси - Валерий Гергиев. Симфония жизни [litres]](/books/1142987/kadzuo-kobayasi-valerij-gergiev-simfoniya-zhizni-li.webp)