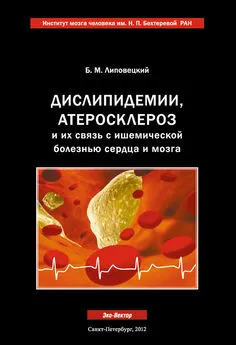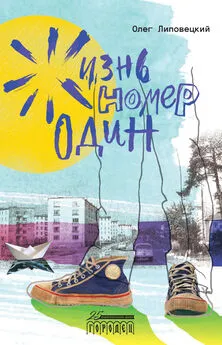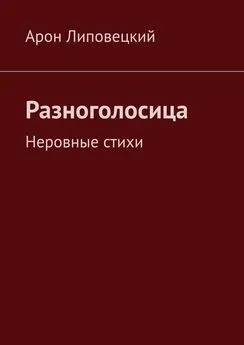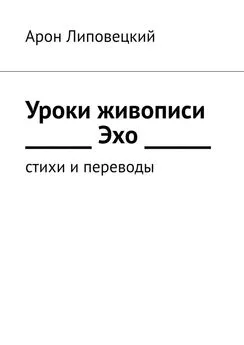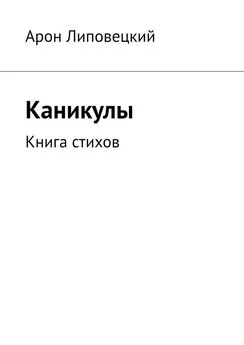Марк Липовецкий - Паралогии
- Название:Паралогии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-588-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Липовецкий - Паралогии краткое содержание
Новая книга М. Липовецкого представляет собой «пунктирную» историю трансформаций модернизма в постмодернизм и дальнейших мутаций последнего в постсоветской культуре. Стабильным основанием данного дискурса, по мнению исследователя, являются «паралогии» — иначе говоря, мышление за пределами норм и границ общепринятых культурных логик. Эвристические и эстетические возможности «паралогий» русского (пост)модернизма раскрываются в книге прежде всего путем подробного анализа широкого спектра культурных феноменов: от К. Вагинова, О. Мандельштама, Д. Хармса, В. Набокова до Вен. Ерофеева, Л. Рубинштейна, Т. Толстой, Л. Гиршовича, от В. Пелевина, В. Сорокина, Б. Акунина до Г. Брускина и группы «Синие носы», а также ряда фильмов и пьес последнего времени. Одновременно автор разрабатывает динамическую теорию русского постмодернизма, позволяющую вписать это направление в контекст русской культуры и определить значение постмодернистской эстетики как необходимой фазы в историческом развитии модернизма.
Паралогии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Вопрос о принципе, соотносящем сюжет Парнока с сюжетом Автора, и вообще двух этих персонажей друг с другом, является ключевым для интерпретации повести. В критике практически общепризнанным является представление о Парноке как об экзистенциальном двойнике Автора, как о квинтэссенции его слабости, обреченности и, главное, еврейской изолированности от русской, советской, имперской, христианской (нужное подчеркнуть) версии «мировой культуры» [229] О еврейских контекстах и подтекстах «Египетской марки» см.: Кацис Л. Указ. соч. С. 287–386.
. Наиболее резко эту точку зрения выразил С. С. Аверинцев:
Автобиографическая проза — порождение того самого удушья, которое ретроспективно отметит потом лирика: депрессивного перерыва, промежутка. В нее как раз уходит все то, чему сопротивляется и что отторгает от себя мандельштамовский стих. Это не продолжение поэзии другими средствами, а отсасывание из открывшихся ран поэзии смертельных для нее ядов. И недаром Цветаева так ярилась на мемуарный (антимемуарный!) труд О.М.: пожалуй, у нее были к тому основания и помимо политики (а также свойственного ей отсутствия склонности к юмору). «Шум времени» (как и «Египетская марка») вправду содержит в себе некую (в контексте литературного пути О.М. — временную) капитуляцию, притом отнюдь не только «идеологическую»: предвещающая нынешний постмодернизм игра на понижение, банализация всех тем, усмешечка. Но дело не только в этом. «Еврейская тема», как и вообще всякая постановка вопроса о собственной эмпирической идентичности («Парнок»), подсказывала ложный ответ на вопрос о главном, то есть о дистанции между миром державным (соответственно мировой культурой) и моим «я»: просто-де вот я по случайности жидочек, как О.М. называли в кругу символистов, племя чужое, Парнок, отщепенец, а вообще-то все идет, как шло. Нет, в том-то и дело, что ни для кого оно не идет, как шло, шиш. Все уменьшается. И Гёте тает… [230] Аверинцев С. С. Так почему же все-таки Мандельштам? // Новый мир. 1998. № 6. С. 220.
С. С. Аверинцеву явно не нравилась параллель между мандельштамовским «я» и Парноком, между поэтическими поисками связей с христианской «мировой культурой» и еврейской отверженностью, между «универсалистским» величием поэзии Мандельштама и униженностью героя его прозы. Примечательно также и то, что поэтика «Египетской марки» оценивалась ученым как перекликающаяся с постмодернизмом. При этом он не принял во внимание то обстоятельство, что рождавшееся в «Египетской марке» новое понимание письма отзывается не только в постмодернизме, но и в позднем творчестве самого Мандельштама и что это понимание вырастает из выяснения отношений с Парноком — как с травмированным «я» [231] Аналогичные персонажи, воплощающие — и отделяющие, остраняющие — авторскую травму (исторического масштаба), можно увидеть в таких героях поздней лирики Мандельштама, как щелкунчик («Куда как страшно нам с тобой…», 1930), Ариосто («Ариост», 1933), Андрей Белый («Голубые глаза и горячая лобная кость…», 1934–1935), Чарли Чаплин («Чарли Чаплин вышел из кино…», 1937) и, наконец, «пехота» из «Стихов о неизвестном солдате» (1937), впрочем, появляющаяся впервые рядом с «человеком эпохи Москвошвея» в стихотворении «Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето…» (1931).
. Важно и то, что Аверинцев (как, впрочем, и — в зеркальном соотношении — Л. Кацис) склонен рассматривать «Египетскую марку» сквозь призму бинарной оппозиции христианства и иудаизма, русской имперской традиции и еврейства/изгойства, тогда как сам Мандельштам в самом названии повести в качестве ключа к ее пониманию предлагает «третью» традицию — египетскую.
Как отмечал M. Л. Гаспаров, ранним Мандельштамом Египет воспринимался как «вещественный, приспособленный для человека, уютный и смешной» мир культуры; в статье «О природе слова» (1921) поэт даже уподобляет эллинизм «могильной ладье египетских покойников». Однако, начиная со статьи «Гуманизм и современность» (1923), Египет, наряду с Ассирией и Вавилоном, упоминается Мандельштамом исключительно в качестве модели репрессивной «социальной архитектуры», обращающейся с человеком как с «материалом, которого должно хватить, который должен быть доставлен в любых количествах» [232] См.: Гаспаров М. Л. Указ. соч. С. 283–291.
.
В «Египетской марке» оба значения «египетской» семантики встречаются, но, как мы увидим ниже, и в «милом Египте вещей», и в ужасных «собачьих головах» убийц «человечка» отчетливо проступают контуры смерти. «Египетская» семантика в повести первоначально возникает в описании космополитического домашнего локуса — но уже и здесь уютный мир соседствует с Валгаллой и сгоревшими Кокоревскими складами. Показательно и то, что детское прозвище Парнока «египетская марка» поставлено в один ряд с «овцой» и «лакированным копытом» — отсылающим к античным архетипам трагедии и пронизывающим «египетский» мотив светом грядущего жертвоприношения. Затем египетские образы появляются и в описании Петербурга («фиванские сфинксы» [с. 470], «фальшивый Египетский мост» в сцене самосуда [с. 477], «египетские телодвижения» эрмитажных полотеров [с. 479])), воплощая «мертвый мир Египта… картину Петербурга, омертвелого, как Египет (даже лже-Египет)» [233] Там же. С. 290.
. Эта картина находит свое завершение в апофеозе ничтожества, плаче «последнего египтянина» — комарика, еще одной ипостаси героя.
Однако есть и некоторые другие, не столь явные параллели между повестью Мандельштама и египетской мифологией, проливающие свет, в первую очередь, на отношения между Парноком и Автором. Начиная с 1890-х годов в России публиковались ставшие с тех пор классическими работы Ф. В. Баллода, Д. Г. Брэстеда и Г. Масперо по истории древнеегипетской культуры, был переведен популярный сборник А. Морэ «Цари и боги Египта» (1914), включен в гимназические программы сборник источников по истории древнего мира под редакцией Б. А. Тураева и И. Н. Бороздина (1917). Как отмечает Л. Г. Панова, «…египетская тема в русской литературе имела начало, пик и конец… Ее пик пришелся на Серебряный век, развивший в себе вкус к элитарным, академическим и эзотерическим темам» [234] Панова Л. Г. Русский Египет: Александрийская поэтика Михаила Кузмина: В 2 т. М.: Водолей; Прогресс-Плеяда, 2006. Т. 1. С. 12.
. При «посредничестве» европейских модернистов (прежде всего — Теофиля Готье) и оккультных теорий Е. Блаватской, Р. Штейнера и Э. Шюре основы древнеегипетской мифологии и важнейшие тексты вошли в культурный обиход как символистов (Брюсов, Иванов, Мережковский, Бальмонт), так и акмеистов (прежде всего М. Кузмина и Н. Гумилева) и даже футуристов (см. повесть В. Хлебникова «Ка» [1915]). Примечателен также цикл статей Розанова о Египте («Величайшая минута истории» [1900], «Пробуждающийся интерес к Египту» [1916], «Зачарованный лес» [1905], «Из восточных мотивов» [1916–1917]), целиком посвященный интерпретации культуры Древнего Египта. Розанов — один из самых читаемых Мандельштамом писателей — возводит те качества, которые он считал определяющими для еврейства (женственность, культ семени, семьи, материнства, домашнего тепла) к древнеегипетскому первоисточнику [235] См.: Розанов В. В. Возрождающийся Египет // Розанов В. В. Возрождающийся Египет. Апокалиптическая секта (Хлысты и скопцы). Малые произведения 1909–1914 годов // Собр. соч / Под общей ред. А. Н. Николюкина. М.: Республика, 2002. С. 7–322.
. Интерес к Египту не угасает в российском образованном сообществе и после революции: показателен выпуск книги Б. А. Тураева об истории и культуре Древнего Египта в 1922 году [236] Подробный обзор источников и рецепции египетской мифологии в России Серебряного века см.: Панова Л. Г. Указ. соч. Т. 1. С. 12–226. См. также: Баран X. Египет в творчестве Велимира Хлебникова: Контекст, источники мифа // Новое литературное обозрение. 2001. № 47.
.
Интервал:
Закладка: