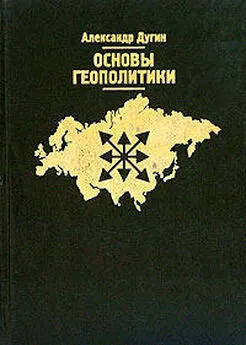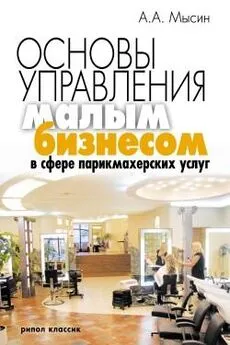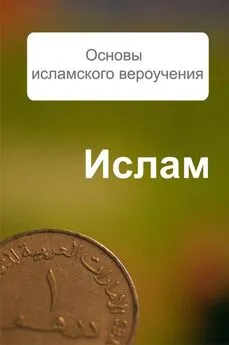Александр Хроленко - Основы лингвокультурологии
- Название:Основы лингвокультурологии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Флинта»ec6fb446-1cea-102e-b479-a360f6b39df7
- Год:2009
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89349-681-9, 978-5-02-033116-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Хроленко - Основы лингвокультурологии краткое содержание
В книге характеризуются базовые понятия новой научной и учебной дисциплины-лингвокультурологин (культура, ментальность, картина мира, этническая принадлежность), показаны аккумулирующие свойства слова и связанные с этим возможности естественного языка, обсуждаются проблемы защиты языка и культуры, демонстрируется эффективность комплекса авторских методик получения лингвокультурной информации. Лингвокультурология в вузах и школе органично дополняет основные курсы теории языка и культурологии.
Дня филологов и культурологов, преподавателей, аспирантов и студентов.
Основы лингвокультурологии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Этнически специфично отражение в языке символических действий. Ранее уже обращалось внимание на то, что трудно найти какой-либо другой язык, в котором было бы такое разнообразие «плевков», как в русском, о чем свидетельствует глагольный ряд: плюнуть, сплюнуть, плевать, наплевать, расплеваться, отплевываться и др. Подобные глаголы называют не только «материальный» акт: можно расплевываться, наплевать в душу, переплюнуть кого-либо ‘превзойти’, плевать в потолок ‘ничего не делать’, наплевательски относиться к своим обязанностям. Употребительны русские существительные наплевательство, наплевизм. Да плюнь ты..! – советуют человеку, если он кажется чрезмерно озабоченным какими-то трудностями. В английских эквивалентах типа: I spit at it //I spit (up) on this; I don’t care; Take it easy! – выражено скорее презрение, чем безразличие, столь отчетливо проступающее в русских выражениях Наплевать..! Плевать..! А я плевал..! Плевать я хотел..! Русские фразы образнее: говорящий не хочет думать и не хочет делать – безразличие и ничегонеделание. Английские выражения советуют избавиться от отрицательных эмоций, но не предлагают предаваться безделью. В русском Плевать! зафиксирована жизненная позиция: отринуть «житейскую суету», подняться до подлинно философского отношения к действительности. «В других языках тоже есть выражения, указывающие на безразличие, там тоже даются советы не расстраиваться по пустякам или отказаться от бесплодных усилий изменить ход дела. Но именно в русском языке все эти идеи сконцентрированы в одном слове плевать » [Булыгина, Шмелёв 1997: 521–522].
«Словарь культурно непереводимых слов» достаточно широк. Так, Р. Якобсон утверждал, что культурный подтекст русского слова быт (повседневная суета, повседневная рутина и т. п.) перевести на другой язык в принципе невозможно. Соборность – идеал духовной общности как альтернатива частной, личной жизни. Слово сострадание на Западе не понимают, ибо совместно можно переживать только страсть, а не боль и страдание. Культурно непереводимы слова типа privacy ‘личный мир, частная жизнь’ self я; ‘эго’ mentality ‘менталитет’ identify 'идентичность, самобытность’. Не переводится крылатая фраза Ильфа и Петрова «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих». Одно из своих публичных выступлений замечательный испанский поэт Гарсия Лорка посвятил слову duende, которое не только нельзя перевести на другие языки, но даже невозможно истолковать в испаноязычной аудитории, хотя каждый житель страны Сервантеса это понятие ощущает, как говорится, нутром [Лорка 1986].
Заимствованное слово, попадая в силовое поле новой ментальности, может изменить свой смысл. Так, популярное ныне слово мафиозность итальянского происхождения, но на русской почве синонимы к нему не покрывают богатства русской семантики, привившейся к итальянскому корню. Это не «коррупция», ибо коррупция ассоциируется только с верхними эшелонами власти. Это не «групповщина» – нечто явное, видимое. Мафиозность – тайная принадлежность к какому-то клану, о котором ни сам человек, ни окружающие могут вообще ничего не знать. Это не «социальная группа», потому что мафиозность – прихотливая скрытая связь. Современный русский человек усвоил это слово не понятийно, а как некий жизненный опыт [Знание – сила. 1993. № 12: 2]. Мафия некоторыми воспринимается как иноязычный синоним русской нечистой силе, но если нечистой силе противостоит крестная сила , то что противостоит мафии – чему-то внешне бесконтрольному и чуждому, иррациональному и опасному?
Ментальность и грамматический строй
Как показала Анна Вежбицкая в работе «Русский язык», сравнивая английский и русский языки, этническая ментальность ярко отражается и в словарном составе языка, и в его грамматическом строе. Англо-саксонской культуре свойственно неодобрительное отношение к ничем не сдерживаемому словесному потоку чувств, англичане с подозрением относятся к эмоциям, в то время как русская ментальность считает вербальное выражение эмоций одной из основных функций человеческой речи.
Эмоциональность русских обусловила большое количество глаголов, называющих эмоции, – радоваться, тосковать> скучать, грустить, волноваться, беспокоиться, огорчаться, хандрить, унывать, гордиться, ужасаться, стыдиться, любоваться, восхищаться, ликовать, злиться, гневаться, тревожиться, возмущаться, негодовать, томиться, нервничать , – которые, как считает А. Вежбицкая, почти не переводимы на другие языки, в том числе на английский, в котором эмоции называются прилагательными и псевдопричастиями типа sad, pleased, angry. Русские глаголы выражают эмоции более энергично, чем английские прилагательные. Частый в русских глаголах эмоций постфикс – ся создает впечатление, что эмоции возникают не под действием внешних причин, а сами по себе. Человек как бы попадает во власть эмоций: – Часто предается унынию; Не отдаваться чувству досады.
«Эмоциональная температура текста» у русских весьма высока, гораздо выше, чем у английского текста, и выше, чем в других славянских языках [Вежбицкая 1997: 55). «Температура» создается обилием уменьшительно-ласкательных форм» диминутивов, реальное экспрессивное значение которых описать крайне сложно. «…Нам не остается ничего иного, как ввести в толкование прилагательного представление о неопределенном свободно плавающем 'хорошем чувстве’, не обязательно направленном на человека или вещь» [Вежбицкая 1997: 54].
Давно уже отмечено, что русский язык с его богатейшей системой суффиксов идеально приспособлен для выражения огромного спектра разнообразных эмоциональных отношений: вор, во-ришка, ворюга, ветрище, шоферюга, доходяга> малявка и т. п.
Анна Вежбицкая высказывает интересные суждения о семантике и функционировании суффикса – ушк -, который используется в названиях взрослых ( дедушка, бабушка, тетушка ), и суффикса —еньк, не применимого в отношении к старым людям. В суффиксе – ушк – исследовательница ощущает чувство жалости, сочувствия: Николенька Ростов – благополучный мальчик, а Николушка – сирота. Наличие в русском фольклоре слов, называющих абстрактные экзистенциальные понятия, – горюшко, волюшка, работушка, смертушка, думушка, заботушка, силушка, долюшка — обусловлено этим чувством. В этом случае суффиксы – еньк- или – очк- не употребляются.
В русской ментальности исключительно важную роль играет степень интимности личных отношений, что обусловливает экспрессивную деривацию русских имен: Катя, Катенька, Катюша, Катька, Катюха, Катюшенька. Если в английской культурной традиции диминутивы у личных имен единичны и оканчиваются на согласный (Тот, Tim, Rod), то русские мужские имена приобретают «женское» окончание (Володя, Митя). Исключение – сравнительно молодое, возникшее не без влияния западной традиции, – Влад (от Владислав).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: