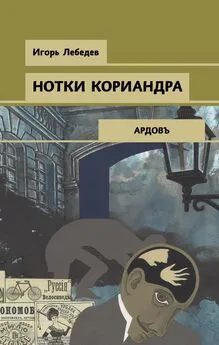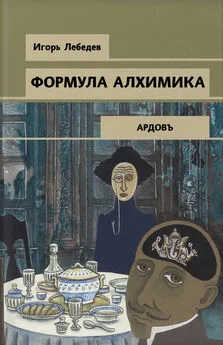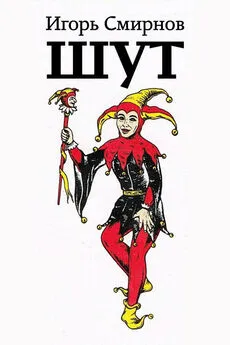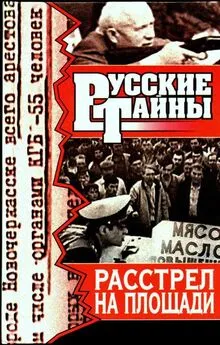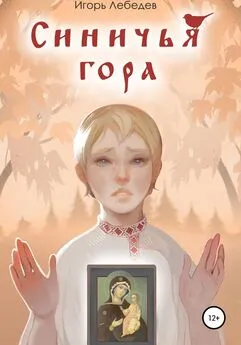Игорь Лебедев - Шут и Иов
- Название:Шут и Иов
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Нестор-История
- Год:2011
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-98187-846-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Лебедев - Шут и Иов краткое содержание
Книга «Шут и Иов» — это попытка синтеза гипотез, предположений и фактов в рамках теории параллельной истории. Тайнопись Пушкина, секреты Дома Романовых и европейских династий, дуэль Лермонтова и смерть Гоголя, молчание Христа — записки сумасшедшего или истина в последней инстанции?
Шут и Иов - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Повести Белкина», как и многое другое в творчестве Пушкина, невозможно понять без недостающего звена, скрепляющего всю цепь. Без знаменитой «утаенной любви» Пушкина.
Еще в 1862 г. на присутствие таинственной любви, проходящей через всю жизнь Пушкина, указывал П. Бартенев. Ею занимались многие. Кого только не называли — сестры Раевские, С. Киселева, Голицына, минимум восемь претенденток. Любовь — эта «северная», петербургская.
В «Бахчисарайском фонтане» есть интересные строки: «Я помню столь же милый взгляд и красоту еще земную…». Тынянов делает точный вывод — это может относиться лишь к уже стареющей женщине (правда, сам он относит «северную любовь» к жене историка Карамзина). Важно для нашего рассмотрения и то, что приведенные пушкинские строки в чистовике, в первом издании поэмы в 1824 г. отсутствуют.
Тот же Тынянов поставил вопрос: почему и зачем понадобилось Пушкину так мучительно и таинственно утаивать свою любовь. К тому же сам Пушкин давал понять, что она безнадежна и не взаимна. Первый отзыв в стихах этого чувства приходится на 1816 г. У Пушкина появляются следующие слова, много объясняющие: «Счастлив, кто в страсти сам себе без ужаса признаться смеет». То есть Пушкин поддается своему порыву с «ужасом»!
Гершензон, исследую «северную любовь» Пушкина, отмечал, что с 1817 г. у Пушкина усиливается внутреннее волнение, достигая апогея в год перед ссылкой, когда А. С. сознательно уже стремится «убежать» из Петербурга (в марте 1819 г. он даже собирался вступить в военную службу и уехать на Кавказ). Он увозил на юг не страсть, а глубокое томление, сладкое очарование недостижимого.
Она — «элегическая» (печальная) красавица, уже стареющая, в любви к которой Пушкин сам себе признается с ужасом. После 1823 г. — страсть к Амалии Ризнич — Пушкин как будто преодолевает свою таинственную любовь, и, как считают пушкинисты, с 1825—26 гг. Пушкиным она уже вспоминается, как умершая, умершая буквально.
Но вдруг она опять появляется в загадочном посвящении «Полтавы». Пушкин хранил такое глубокое молчание о лице, кому посвящена «Полтава», что ни в переписке, ни в воспоминаниях его друзей и близких не сохранилось даже намеков. И поэма посвящена уже не мертвой, а живой! «Тебе — но голос музы темной коснется ль уха твоего? Поймешь ли ты душою скромной стремленье сердца? Иль посвящение поэта, как некогда его любовь перед тобою без ответа пройдет, непризнанная вновь?»
Более того, указывается и местопребывание той, к кому обращены стихи — «твоя печальная пустыня».
Главное женское лицо «Полтавы» — Мария. Именно приблизительно с этого времени большинство женских имен главных героинь произведений Пушкина — или Мария, Марья (Мэри), или Луиза (Лиза, Елизавета).
Вспышка таинственной любви 1829—30 гг., по мнению Эзенштейна, только и может объяснить «совершенно алогический акт Пушкина — женитьбу на Гончаровой». В стихотворении 1830 г. «Прощание» мы читаем странные сочетания: «Уж ты для своего поэта могильным сумраком одета, и для тебя твой друг угас. Прими же, дальняя подруга, прощанье сердца моего, как овдовевшая супруга, как друг, обнявший молча друга пред заточением его». Не она угасла, если говорить об умершей, а наоборот! «Могильный сумрак» и явное обращение к еще живой женщине! Вдова или супруга?
Все эти и другие противоречия и тайны проясняются, если мы обратимся к личности Елизаветы Алексеевны, жены императора Александра I! Ключ к пониманию и «Маленьких трагедий», и «Повестей Белкина», и «Домика в Коломне» дает Пушкин, делая обмолвку, вместо Параши, служанки графини, А. С. пишет: Наташа, а это Н. Волконская — фрейлина Елизаветы Алексеевны (до принятия православия — Марии-Луизы).
К 1815—16 гг. она уже была для Пушкина женщиной зрелых 35–36 лет. Печальная красавица была фактически оставлена мужем-императором. Скромная (из 200 000 рублей, на нее выделенных, тратила лишь 10 тыс.), всеми любимая, занималась благотворительной деятельностью. Становится понятным вообще, что связывает в единое целое «Повести Белкина» и «Домик».
Бурная фантазия Пушкина разыгрывает в своем творческом сознании подсознательную комбинацию — «Я и Елизавета».
Пушкин женился, точнее, он кидался в брак, и тема женитьбы другой, духовной, не телесной преломилась в «Метели». Он думал о Елизавете, а писал о Марье (Марии!) Гавриловне 17-ти лет (столько было Гончаровой в 1829 г. — году окончательного решения для Пушкина жениться). В «Домике» он обыгрывает ситуацию — «а вот, если бы я так виделся с ней!» [9] Формальным поводом для сюжета послужил рассказ Нащокина, который, влюбившись в актрису, облекся в женский наряд и прожил у нее в качестве горничной более месяца.
.
В 20-е годы нашего века известный советский психоаналитик И. Д. Ермаков писал: «Пушкин в своем „Домике“ стоял перед определенной задачей — нужно дать выход всем внутренним коллизиям и чувствам, нужно выразить и раскрыть что-то интимно-личное, и в то же время нельзя открывать до конца. Нужно, показывая, обнаруживая, скрыть». Эти слова можно отнести ко всем «Повестям покойного Белкина». Если внимательно под ракурсом «Елизаветы», всмотреться в предисловие «Повестей», то обнаруживаем, что «Белкин» как бы подсознательно впитал в себя факты их биографии Пушкина по отношению к двум лицам — Александру I и Елизавете Алексеевне.
1815 г. явно указывает на начало «великой любви» Пушкина, а 1823 г. — на ее конец (страсть к Ризнич), в ее первом юношеском облике. Для Александра I эти годы тоже значимы: — начало величия и фактически его конец (отречение, о котором Пушкин узнал, по всей видимости, в 1828 г., когда он описывает смерть «Белкина», очень похожую на официальную кончину Александра I). «Иван Петрович осенью 1828 г. занемог простудного лихорадкой, обратившеюся в горячку, и умер несмотря на неусыпное старание уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного».
Пушкин даже не скрывает своей иронии по этому поводу. Цифры 15 и 23 неслучайны, и он это подчеркивает, когда в письме «почтенного мужа» указывает, что письмо тот от 15-го получил 23-го. А следующие странные строки полны просто сарказма: «Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина: но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком». Как уже говорилось, Елизавета (Мария-Луиза) Алексеевна фактически была оставлена мужем задолго до 1825 г.
Но мы ведь видели, что его «северная любовь» умерла, а после как бы снова «воскресла»! Императрица Елизавета Алексеевна официально умерла в 1826 г., через несколько месяцев после таинственной смерти императора Александра в Таганроге. Ныне и историки склоняются к утверждению, что Александр не умер, а ушел, и что старец Федор Кузьмич и царь — одно лицо. Но об этом Пушкин писал еще в зашифрованной (кодом розенкрейцеров) Х-й главе «Евгения Онегина»: «Авось, о Шиболет народные, тебе б я оду посвятил, но стихоплет великородные меня уже предупредил… Авось, аренды забывая, ханжа запрется в монастырь…»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
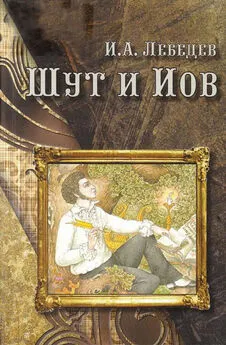


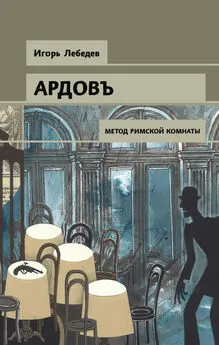
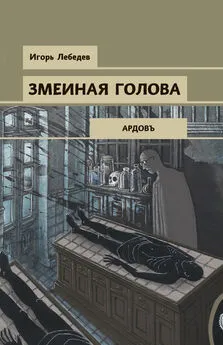
![Игорь Лебедев - Метка Зверя: Ассимиляция [СИ]](/books/1057132/igor-lebedev-metka-zverya-assimilyaciya-si.webp)