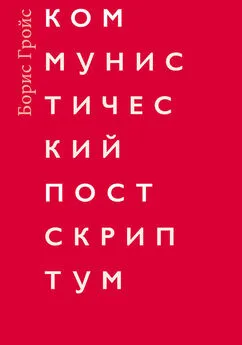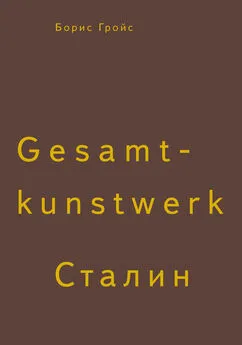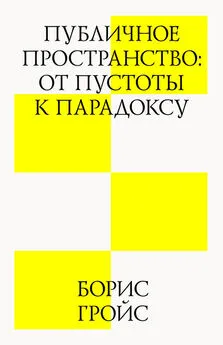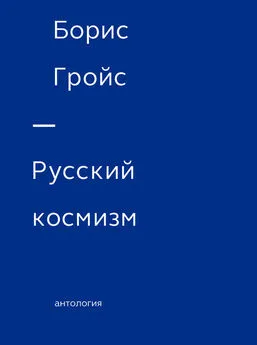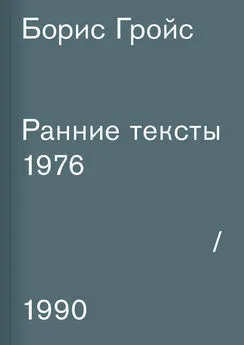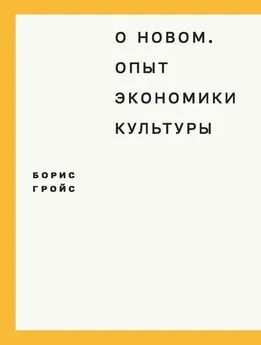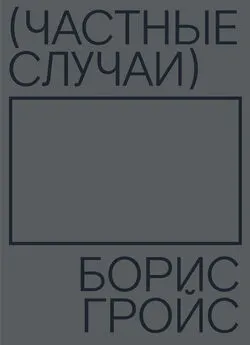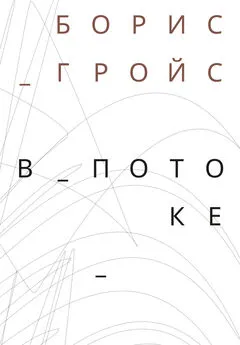Борис Гройс - Коммунистический постскриптум
- Название:Коммунистический постскриптум
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ад маргинем»fae21566-f8a3-102b-99a2-0288a49f2f10
- Год:2014
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91103-181-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Гройс - Коммунистический постскриптум краткое содержание
Книга «Коммунистический постскриптум» философа и теоретика искусства Бориса Гройса представляет собой попытку радикальной переориентации современной теории с обсуждения экономических предпосылок политики («власть денег») на дискуссию о политике как языковом доминировании («власть языка»).
Согласно автору, революции ХХ века представляли собой переориентацию общества с медиума денег на медиум языка и в этом смысле они продолжают (через культурную память) осуществлять подлинный поворот к языку на уровне общественной практики.
Коммунистический постскриптум - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Как бы то ни было, тотальная вербализация общества не только не сулит прекращения общественных конфликтов, а, напротив, ведет к их обострению. В условиях капиталистической экономики парадокс интерпретируется как конфликт интересов, который хотя бы на некоторое время приостанавливается путем заключения компромисса в медиуме денег. Но в медиуме языка парадокс не может быть оплачен и тем самым преодолен. Следовательно, если коммунизм представляет собой перевод общества на медиум языка, то он обещает не идиллию, а жизнь в постоянном самопротиворечии, в ситуации предельной внутренней расщепленности и напряжения. Платоновский философ, узревший сияние логоса, не находит идиллию, когда возвращается в ад человеческого общества. Сравнивая своих противников с начетчиками и талмудистами, Сталин косвенным образом сравнивает диалектический материализм с Новым Заветом. Поэтому он не обещает воплотившемуся логосу – в данном случае коммунистической партии и советскому народу – ничего кроме мученичества.
В этом отношении особенно показательно место из «Краткого курса», где приводится следующая цитата из Ленина: «Касаясь материалистического взгляда древнего философа – Гераклита, по которому “мир, единый из всего, не создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет вечно живым огнем, закономерно воспламеняющимся и закономерно угасающим”, – Ленин говорит: “Очень хорошее изложение начал диалектического материализма” (Ленин, “Философские тетради”, стр. 318)». [17]Диалектический материализм предлагает идти сквозь вечно живой огонь. А пройти сквозь огонь и не сгореть может, как известно, только тот, кто сам пылает как огонь. Впрочем, коммунистические массы прекрасно понимали это с самого начала. В популярной песне времен гражданской войны пелось: «Смело мы в бой пойдем за власть советов / И как один умрем в борьбе за это». Это обещание было выполнено. Так все и произошло. Огонь, вызванный коротким замыканием противоположностей, перерос в пожар. Многие сгорели. Ожоги получили почти все. Потом вечно живой огонь угас – в соответствии с собственной закономерностью и до следующего раза.
3. Коммунизм, рассматриваемый извне
Однако внешние наблюдатели крайне редко видели в советском коммунизме огонь, зажженный логическим парадоксом, и всепоглощающую жизнь в самопротиворечии. Как среди сторонников коммунизма, так и среди его противников возобладала точка зрения на коммунизм как на формально-логически и рационально-технически организованную идиллию. Это восприятие коммунизма сказывается и в тех случаях, когда встает вопрос, можно ли считать бывшие государственно-социалистические режимы Восточной Европы коммунистическими или нет. Подавляющее большинство западных левых придерживаются того мнения, что эти режимы способствовали не реализации коммунистической утопии, а ее искажению. Причину этого обычно усматривают в тотальной рационализации и бюрократизации советской жизни. Под рационализацией здесь понимается господство инструментального, формальнологически организованного, холодного, дегуманизированного разума. Короче говоря, реальный социализм критикуют за то, что он пытался сделать из людей автоматы, машины, функционирующие в соответствии с предписанной программой, исключая и подавляя при этом все подлинно человеческое – все, указывающее на то, что человек обладает не только рациональным мышлением, но и желаниями. Впрочем, в этой оценке западные левые и правые не так уж далеки друг от друга. Отличие состоит лишь в том, что правые в любой утопии видят покушение на свободу человеческого желания, поскольку считают конфликт между разумом и чувством неизбежным и непреодолимым, тогда как левые верят в «истинную утопию», понимая под ней примирение или, по крайней мере, компромисс между разумом и желанием.
Поскольку в годы холодной войны Запад не был непосредственно знаком с советским опытом, его восприятие коммунизма как царства холодной рациональности, в котором люди превращены в машины, в первую очередь связано с давней литературной традицией утопических социальных проектов и полемических антиутопий. Эта традиция ведет от Платона к Томасу Мору, Кампанелле, Сен-Симону и Фурье и далее к Замятину, Хаксли и Оруэллу. Вне зависимости от позитивной или негативной оценки, утопическое общество описывается в этой традиции как последовательно рационалистическое, функциональное, жесткое. Все его члены имеют четко прописанные функции, их повседневная жизнь строго регламентирована, а любое отклонение от детально продуманной и не допускающей двусмысленностей социальной программы исключено как для общества в целом, так и для каждого отдельного человека. То, что отклонение исключено, не обязательно означает, что оно запрещено. Оно попросту немыслимо, потому что все члены такого общества просвещены, все мыслят логически, все понимают рационально обоснованную необходимость определенного хода вещей. Единственное принуждение, существующее в утопическом обществе, – это принуждение логическое, и поэтому нет никакой рациональной причины уклоняться от общественной программы. Однако логос, воплощенный в таком утопическом обществе, – это непротиворечивый, когерентный, рационалистический логос науки, а не внутренне противоречивый, парадоксальный логос философии.
Описание коммунистического, «тоталитарного» общества как предельно рационалистического и логоцентрического в особенности характерно для антиутопических текстов. С точки зрения их авторов, человеческое в человеке проявляется в сопротивлении рациональному порядку, в способности уклониться от предписанной обществом программы. Современная антропология помещает человека не между животным и Богом, как раньше, а между животным и машиной. Авторы классических утопий были склонны приветствовать как раз машинное в человеке, чтобы резче отделить его от животного, ведь в животности они видели главную опасность для человека. Авторы позднейших антиутопий, напротив, приветствуют в человеке животное, инстинктивное, аффективное начало, чтобы резче отделить его от машины, поскольку в машинном они видят главную опасность для человека. Если верить этой антропологии, сопротивление власти холодной, машинизированной рациональности может исходить исключительно из иррационального источника – из царства чувств, которым чужда последовательная аргументация и которые обладают иммунитетом против логики в силу своей изначальной амбивалентности и противоречивости. Обычно таким источником оказывается сексуальное желание, любовь, возникающая у героев антиутопических романов как сопротивление принудительной логике рационалистического утопического общества. Теоретические работы, направленные против утопических социальных проектов, в сущности прибегают к той же аргументации. Ницше, иронизирующий по поводу идеала спокойного существования в совершенном обществе, апеллирует к свойственному человеку стремлению к смерти. Батай говорит об эксцессе, эросе и празднике как истоках суверенности, которые коммунистическое общество пытается (впрочем, безуспешно) осушить во имя рациональной организации производственного процесса.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: