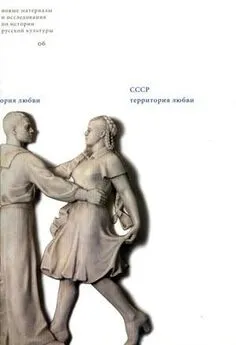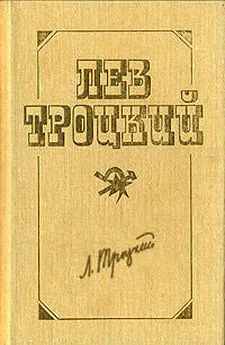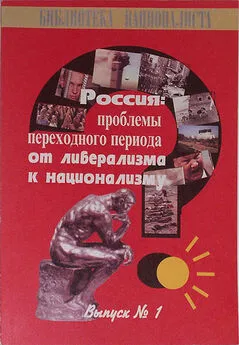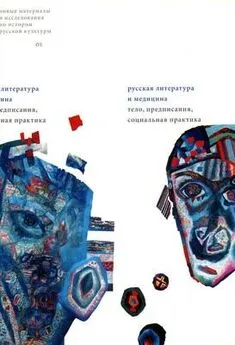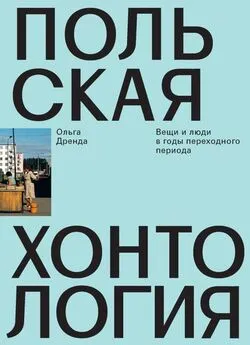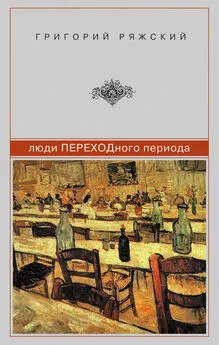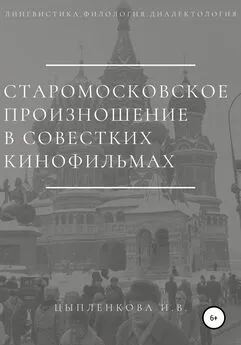Татьяна Дашкова - Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода
- Название:Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое издательство
- Год:2008
- Город:Москва
- ISBN:978-5-98379-106-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Татьяна Дашкова - Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода краткое содержание
Задачей предлагаемого исследования является рассмотрение изменений в кинорепрезентации приватного при переходе от «большого стиля» к кинематографу «оттепели». Под кинорепрезентацией приватного я буду понимать набор сюжетов, связанных с частной и/или интимной жизнью (ухаживание, общение влюбленных, семейная жизнь, внебрачные связи, ситуация развода, рождение и воспитание детей и др.), представленность в кинематографе бытовых практик (работа по дому, проведение досуга, гигиенические процедуры и пр.), а также способы показа приватного, характерные именно для кинематографа как особого типа медиума (крупный план, фрагментация, субъективная «ручная» камера, специфический свет, шумы и пр.).
Границы приватного в советских кинофильмах до и после 1956 года: проблематизация переходного периода - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
52
См.: Марголит Е. Указ. соч. С. 181. Так, исследователь приводит характерный пример намеренного слома комедийной «типажности» Ю. Никулина в драматическом фильме «Когда деревья были большими» (от себя добавлю — и в «Двадцати днях без войны» А. Германа). Вспомним также радикальные смены амплуа у Л. Гурченко: от звезды музыкальной комедии — до драматических ролей 70-х годов.
53
Отмечу, что следует отличать «простоту» и «обычность» 60-х от «простого советского человека» 30-х. Как верно замечает Е. Марголит, в «оттепельном» кино «„простой человек“ начинает ощущать свою „простоту“ как драму, как нечто, требующее преодоления» (Там же. С. 180).
54
Там же. С. 181.
55
Изволова И. Указ. соч. С. 81. Вспомним известный факт активного неприятия героини Т. Самойловой В. Розовым, автором пьесы «Вечно живые», по которой были поставлены «Журавли».
56
Там же. С. 81.
57
См.: Марголит Е. Указ. соч. С. 192; Он же. Отблеск костра, или Настоящий конец большой войны // Кинематограф оттепели. М., 2002. Кн. 2. С. 106.
58
Позднее появятся фильмы, в которых вообще будет отсутствовать «внешний» конфликт (исторический, политический, производственный). Не исключено, что именно невозможностью воспринимать «внутренний» (приватный, любовный) конфликт как сюжетообразующий и было вызвано запрещение (явно не по политическим мотивам) очень сильного камерного фильма А. Смирнова «Осень» (1975).
59
Поскольку в этом фрагменте речь пойдет как о знаковых элементах фильма, так и о незнаковых (например внутрикадровая атмосфера), я считаю необходимым различать эти понятия: в первом случае говорить о «киноязыке», во втором — о «фильмическом».
60
У отечественных киноведов принято разделять советское кино этого периода на «поэтическое» и «прозаическое». См., например: Марголит Е. Советское киноискусство… С. 179 и далее. Следует указать, что «субъективное» кино 50–60-х возрождает прерванные традиции советского киноавангарда 20-х годов, тогда как «документалистское» кино можно возвести к экспериментам раннего итальянского неореализма.
61
Важно зафиксировать эту намеренность в показе повседневности — это уже не эмоционально нейтральный «фон», а полноправный «персонаж» фильма (камера фиксируется на бытовых деталях, они даются крупным планом или долго панорамируются).
62
Там же. С. 179–180.
63
См.: Барт Р. Эффект реальности // Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. М., 1989.
64
Трояновский В. Новые люди шестидесятых годов // Кинематограф оттепели. М., 2002. Кн. 2. С. 16.
65
В этот период вообще происходит усложнение киноязыка и усиление авторского начала в кинематографе.
66
См. описание атмосферы этого эпизода: Там же. С. 17.
67
В этот же период становятся возможными сцены «в постели», разумеется, снятые очень целомудренно (обычно это показ ситуации «до» или «после»), как, например, в к/ф «Еще раз про любовь». Что же касается показа обнаженного тела, то эти эпизоды можно перечесть по пальцам: это голые мужские зады в «неэротических» эпизодах комедий Л. Гайдая «Кавказская пленница», «Операция „Ы“» и «Брилиантовая рука»; «отстреленный» лифчик героини С. Светличной из той же «Брилиантовой руки» и эпизод женской бани из к/ф «А зори здесь тихие» (который то вырезали, то вставляли вновь, поэтому по сей день встречаются разные версии). Гораздо позднее появятся обнаженная героиня в «Романсе о влюбленных», снятая сквозь аквариум эротическая сцена в к/ф «Экипаж», купания в душе героинь «Москва слезам не верит», «Родня» и любовные эпизоды из «Зимней вишни». Но действительным «прорывом» будет только «Маленькая Вера» (1988).
68
Отдельную проблему составляет вопрос о том, что здесь является элементом актерской игры, а что — природной сексапильностью актера. Размышления на эту тему см.: Дашкова Т. Сюрпризы репрезентации, или Хвост виляет собакой (опыт анализа неудачного фильма 1935 года) // Неприкосновенный запас. 2002. № 2/22. С. 92–93.
Интервал:
Закладка: