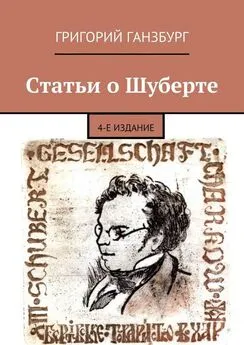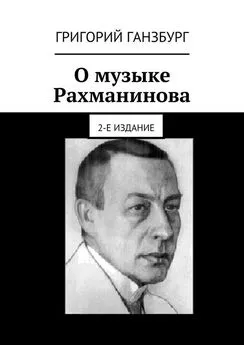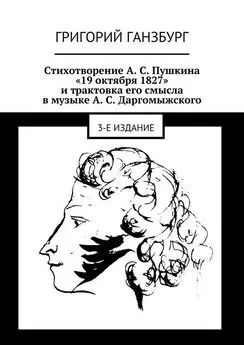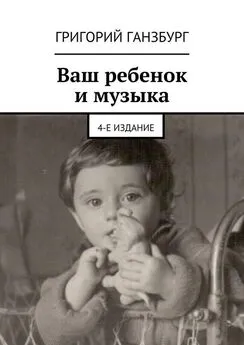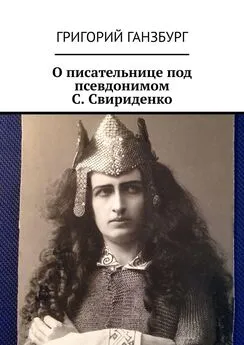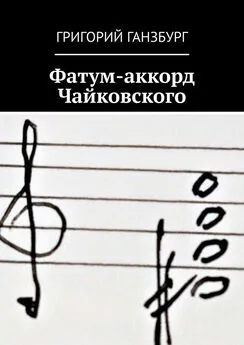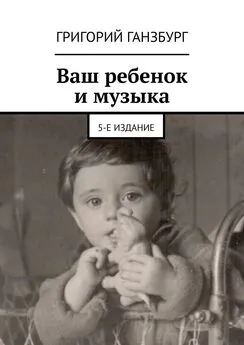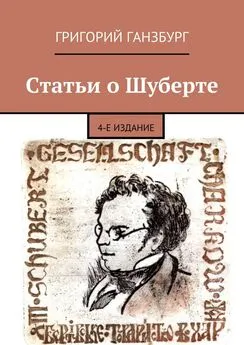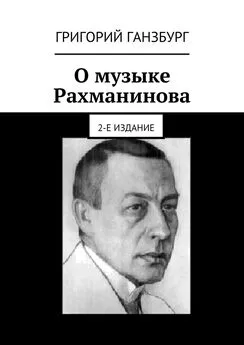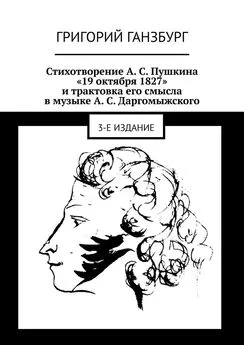Григорий Ганзбург - Статьи о Шуберте
- Название:Статьи о Шуберте
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Ридеро»78ecf724-fc53-11e3-871d-0025905a0812
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-4474-0570-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Григорий Ганзбург - Статьи о Шуберте краткое содержание
Книга адресована широкому кругу читателей, интересующихся взаимосвязями музыки и поэзии. Статьи, включенные в сборник частично публиковались в периодике и в материалах симпозиумов начиная с 1993 г. Первое издание вышло в свет в 1997 году к 200-летию Ф. Шуберта. Для четвертого издания тексты пересмотрены и дополнены.
Статьи о Шуберте - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Выделение либреттологии в особую дисциплину обусловлено тем, что между музыковедческими науками, с одной стороны, и филологическими, с другой, образовалась как бы «ничейная» зона: музыковеды считают специальное изучение проблем, связанных с либретто, компетенцией филологов, а филологи – компетенцией музыковедов. Те и другие бросают на эту область «косые взгляды» со стороны то музыковедения, то литературоведения. И подобно изображению у края объектива, наблюдаемая ими картина искажается. Если же направить и сфокусировать научный «объектив» прямо на эту область искусства, то увиденное окажется существенно иным.
В центре внимания либреттологии – не слово и не музыка, а пограничье между ними, зона прилегания, взаимосцепления, взаимопроникновения. При таком подходе исследователь занимается одновременно и интонацией, мелодией, гармонией, полифонией (то есть всем тем, что изучает музыковедение), и фонетикой, синтаксисом, стихосложением, строфикой (то есть многими из тех аспектов, которые изучает филология).
Творчеством каждого композитора либреттология интересуется в той степени, в какой музыка этого композитора связана со словом. Понятно, что центральные фигуры для либреттологии – те композиторы, в чьем наследии синтетические жанры составляют ядро, а второстепенные – те композиторы, в чьем наследии синтетические жанры составляют периферию 22. Например, Шуман и Шопен, Вагнер и Брамс – фигуры в музыкальном процессе равновеликие, но для либреттологии Шуман и Вагнер – фигуры первой величины, а Шопен и Брамс – не первой.
Музыка Ф. Шуберта в этом отношении – один из самых значительных объектов внимания либреттологии. Мало того, что синтетические жанры составляют ядро творчества этого композитора, но и периферия творчества – инструментальная его музыка – также является вербальнозависимой . Это требует при анализе учитывать, например, такие сложные либреттологические проблемы как скрытая вербальность, мнимая вербальность и др. Поэтому шубертоведение, ставшее весьма разветвленной областью знаний, почти всеми своими направлениями так или иначе упирается в либреттологию, накапливает необходимый для этой науки материал. В свою очередь либреттология, ее аппарат, методы – служат инструментом исследования для шубертоведения.
Явно либреттологический характер носит, например, проблема «Шуберт и русская (или украинская, польская и т. д.) культура», или, если выразиться более обобщенно, «Шуберт и иноязычный мир». Каждый из нас говорит на одном основном для себя языке, и независимо от того, знаем ли мы язык какой-либо другой страны, все равно та страна для нас иноязычная. Поэтому вопрос о том, слушают ли вокальную музыку композитора в иноязычном мире на языке автора или на языке аудитории – это вопрос о том насколько близок стал композитор слушателям других стран и вошел ли он в историю музыки этих стран. Для композиторов, условно говоря, вербальнозависимых – Генделя, Глюка, Вагнера, Верди, Римского-Корсакова, Шуберта – это вопрос об их мировом значении. Напомню принцип, который в свое время с полным основанием употребил В. Чешихин. Желая разграничить, какие явления принадлежат истории русской оперы, а какие ей не принадлежат, он классифицировал так: если иностранная опера, например, итальянская, исполнялась в России на итальянском языке, – то этот факт относится к истории итальянской оперы. Если же она исполнялась в русских переводах, то принадлежит также и истории русской оперы. 23
Применение этого совершенно разумного принципа к другим жанрам (песне, романсу, кантате, оратории, музыке к драматическому спектаклю) приводит к пониманию того, что именно искусство переводчиков вокальных текстов делает произведения Шуберта фактом истории русской (или украинской, или польской и т. д.) музыки.
Приходится признать, что главной нерешенной (и весьма запущенной в своей нерешенности) задачей и русского шубертоведения, и либреттологии является как раз написание истории переводов песен Шуберта на русский язык. С тех пор, когда в кружке Станкевича (30-е годы XIX века) зазвучали песни Шуберта 24, русские интеллигенты, которые хорошо знали немецкий язык, и которым, казалось бы, не нужен был перевод, занялись переводом этих песен, переводом как искусством. Ибо там, где перевод не замещает собою оригинала, он является искусством слова в чистом виде, и художественная функция такого перевода становится основной. В иных случаях прагматические цели перевода могут перевешивать эстетическую сторону дела. Есть перевод как искусство и перевод как необходимость, разница в том, что первый действует наряду с оригиналом, а второй – вместо него. В 1920 году В. Я. Брюсов констатировал, что отныне (то есть после упразднения в России классического образования) перевод с античных языков «должен будет для русского читателя заменять подлинник» . 25Ему тогда, конечно, трудно было себе представить, что такое случится и с переводами с живых европейских языков. Но это случилось. В результате вокальные переводы стали необходимым условием присутствия музыки Шуберта в эстетическом опыте русской публики. Однако, независимо от того существует ли в сознании слушателя перевод песни Шуберта параллельно оригиналу или оригинал остается для него неведомым, песня Шуберта в русском переводе функционирует как явление русской культуры.
Положение, в котором оказывается вокальное наследие Шуберта в иноязычной стране, где большинство не понимает немецкого языка, заслуживает специального обсуждения. В предыдущем очерке мы уже выяснили, почему пение иноязычной вокальной музыки на языке оригинала уничтожает для слушателя не только семантическую, но и фонетическую структуру подлинника. Но даже когда фонетика оригинала сохранна, иноязычный слушатель, лишенный стихотворного перевода текста, остается ни с чем. Гейне говорил: «Чудные стихи охватывают твое сердце, как ласка любимой женщины; слово обнимает тебя; мысль – целует» 26. Не имея перевода, иноязычный слушатель воспринимает звучание слова, но не мысль. Это означает (в терминологии Гейне) объятие без поцелуя. Понятно, что если вас обнимут и не поцелуют, вы будете недовольны. (О том же толковал и Р. Шуман, когда говорил, что «стихотворение должно покоиться в объятиях певца, как невеста – свободно, счастливо, целиком» 27).
Избежать досадных потерь смыла при восприятии иноязычной вокальной музыки, как уже было сказано, можно лишь благодаря талантливому переводчику: он сохраняет семантику оригинала и при этом выстраивает средствами своего языка новую фонетическую конструкцию, которая во взаимодействии с мелодией воссоздает и возвращает первоначальную силу художественного воздействия, присущую подлиннику.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: