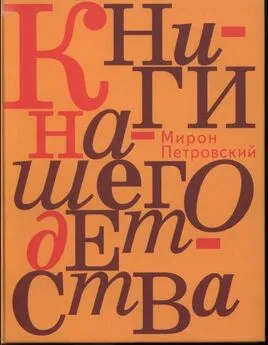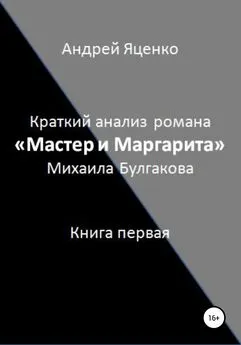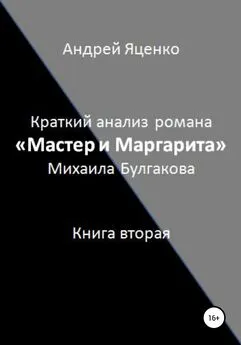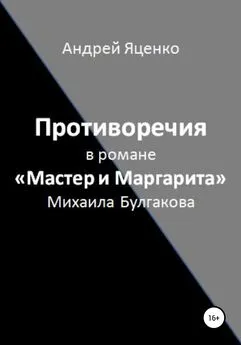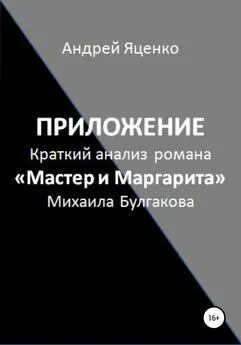Мирон Петровский - Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова
- Название:Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «ИП Князев»c779b4e2-f328-11e4-a17c-0025905a0812
- Год:2008
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-89059-105-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Мирон Петровский - Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова краткое содержание
Книга Мирона Петровского «Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова» исследует киевские корни Михаила Булгакова – не в очевид ном биографическом аспекте, а в аспекте творче ском и культурно-педаго гическом. Ее тема – происхождение такого мастера, как Михаил Булгаков, из такого города, каким был Киев на рубеже ХIХ и ХХ столетий. Культура этого города стала для него неисся каемым источником творчества. Перефразируя название книги, популярной в годы юности писателя, книгу М. Петровского можно было бы назвать «Рождение художника из духа города».
Мастер и город. Киевские контексты Михаила Булгакова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Последнее появление Самозванца в трагедии происходит в сцене «Лес»: потерпев сокрушительное поражение, Самозванец с кучкой сторонников находит ночлег в лесу. Следует поразительная ремарка, по смыслу которой строится не только действие пушкинского «Бориса Годунова», но и булгаковского «Батума»: «Ложится, кладет седло под голову и засыпает». Сцена кончается репликой Пушкина – наперсника Самозванца и предка автора:
Приятный сон, царевич!
Разбитый в прах, спасаяся побегом,
Беспечен он, как глупое дитя;
Хранит его конечно провиденье;
И мы, друзья, не станем унывать.
Роль Самозванца на этом отыграна: мы знаем, кем – уже в исторической, а не эстетической реальности пьесы – он проснется. Вот так – точно так – «разбитый в прах, спасаяся побегом», засыпает в последней сцене «Батума» Сталин. Роль пророка отыграна, и проснется он вождем: «Хранит его конечно провиденье», – остается только вообразить горький сарказм Булгакова по поводу этого злого провидения. Конечно, финал булгаковской пьесы – еще одно жесткое напоминание о самозванчестве героя, но злое провидение – это уже что-то новое и неожиданное в нравственном космосе Булгакова…
Одну сцену Булгаков из окончательного текста «Батума» исключил. Говорят, она тормозила действие. Говорят, она оказалась слабой. Но разве действие «Батума» столь стремительно, что следует опасаться его торможения? Нет, оно развивается плавно по заранее известной зрителю биографической канве главного героя, и тормозить, строго говоря, нечего. По своему художественному качеству опущенная сцена вполне на уровне всей пьесы и вполне влита в ее смыслы. Действие исключенной сцены происходит на кладбище – достаточно удобном месте для тайных сходок. Здесь, среди могил, и происходит тайная сходка революционеров – приверженцев Сталина.
Сталин – страстный курильщик и не может, видите ли, удержаться даже в таком святом месте. Он курит – он оскверняет место вечного упокоения. Кладбищенский сторож Илларион не одобряет поведение Сталина, и вообще: «Пора вам расходиться, – говорит он конспираторам. – Мне эта ночь не нравится. Лучше от греха расходитесь…» Снова типичная булгаковская двусмыслица: от греха – от возможного налета полиции, или же от того греха, который здесь совершается сейчас? Тайное сборище успевает разойтись до того, как на кладбище нагрянула полиция, и сторож отбивается от упреков околоточного, издевательски заостряя очередную двусмыслицу: «Я караулю плохо? Пожалуйста, пересчитайте: все на месте! Никто не воскрес, ни одного не украли…» Демон-пророк, лже-Христос посетил кладбище – и никто не воскрес.
Для чего или отчего Булгаков изъял эту острую, мистериально-буффонадную, выигрышную, кивающую на шекспировских могильщиков сцену, объяснить трудно. Но очевидно, что после изъятия кладбищенской сцены «Батум» еще больше уподобился «Борису Годунову», который, как известно, тоже состоит из канонического текста и двух исключенных сцен. Одна из них происходит у Новодевичьего монастыря, который у Булгакова, жившего неподалеку, вызывал уже другие, не монастырские ассоциации. Не было ли изъятие сцены на кладбище еще одной отсылкой к пушкинской трагедии?
Давно уже замечено пушкинистами (Д. Благим, например), что пушкинская трагедия имеет симметричное строение – относительно своих главных персонажей: они появляются в пьесе и уходят из нее на равных расстояниях от начала и конца. В каком действии от начала появляются, в таком – считая от конца – исчезают. Борис появляется первый раз в четвертом действии от начала, последний – в четвертом от конца. Гришка Отрепьев появляется в пятом действии от начала – и в пятом же от конца отходит ко сну, уходит из пьесы. Таким образом, часть трагедии, посвященная Самозванцу, представляет собою изолированный и замкнутый фрагмент – как бы пьесу о Гришке Отрепьеве, вставленную в пьесу о Борисе Годунове. По-видимому, это обстоятельство не только облегчило, но даже спровоцировало булгаковский замысел – сопоставить Сталина с Отрепьевым и тем выявить самозванчество своего героя.
Нужно вспомнить любовь Булгакова – писателя и драматурга – к конструкции, которую специалисты называют «текст в тексте». То, что «Мастер и Маргарита» – «роман в романе», а «Багровый остров» – «пьеса в пьесе», стало уже общим местом работ о Булгакове. Но приглядимся: редкая его вещь не построена как «текст в тексте». С непререкаемой очевидностью это наблюдается в его драматургии. «Тараканий театр» Артура в «Беге», королевский Пале-Рояль в пьесе о Мольере, кукольный и «звериный» театр в «Дон Кихоте», эстрада для демонстрации нарядов, – «театр мод» – в «Зойкиной квартире», роман «Черный снег» в «Театральном романе», двойное действие – («здесь», в современности, и «там», в прошлом и будущем) в «Блаженстве» и «Иване Васильевиче», воспринимающиеся по аналогии как «пьеса в пьесе», – насыщение слишком высокое, чтобы его не заметить и не оценить.
Мало сказать, что Булгаков, дескать, «любил» такую конструкцию – он, сын «города в городе», «Иерусалима в Иерусалиме», «Рима в Риме», мыслил ею, и не будет слишком большой дерзостью предположить, что это мышление было свойственно Булгакову-читателю в такой же мере, как и Булгакову-писателю. Вот он и прочел пушкинского «Бориса Годунова» по-своему, увидав в нем «пьесу в пьесе». «Батум», если уж быть точным, соотнесен не со всей пушкинской трагедией, а только с (условно) «вставленной» в нее пьесой о Самозванце, но зато соотнесен основательно и последовательно, от первой до послед-ней строки, до ремарки «засыпает», зафиксированной в момент поражения и бегства героя.
V
Охотней всего Булгаков связывает мотив самозванчества с «Борисом Годуновым», и этот выбор нетрудно понять. Писатель осмыслял свое существование при том режиме, который ему достался; художественная задача Булгакова втягивала воцарившегося самозванца, а из всех русских самозванцев только Лжедмитрию I, персонажу отечественной истории и пушкинской трагедии, удалось добраться до трона.
Все рассмотренные мотивы творчества Булгакова, формирующие типологию его творчества, были даны художнику как бы изначально. Постепенно, от одной вещи к другой, они разворачивались все с большей откровенностью и силой. Это крещендо булгаковских мотивов становится особенно очевидным, если рассматривать не отдельно пьесы, отдельно рассказы, отдельно романы и так далее, а, пренебрегая жанровыми различиями, представить все его произведения последовательной целостностью, протяженным единством, нерасчлененным и одновременно дискретным текстом, что подразумевается исследованием типологии творчества. В «Батуме» с наибольшей силой и откровенностью проговорился мотив самозванчества, подобно тому, как в «Мастере и Маргарите» проговорились сатанинские и христологические мотивы вместе с противостоянием мирской и духовной власти. С этой точки зрения творчество Булгакова предстает как бескризисное развитие, как постепенно набирающее высоту разворачивание «изначально» данных художнику потенций, поразительный образец верности писателя самому себе и своему духовному призванию – вопреки всем стараниям мирской власти сбить его с пути, завертеть в административно-карательной метели, перекупить, уничтожить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: