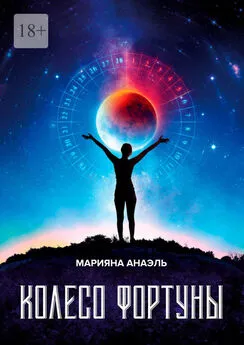Антон Нестеров - Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века
- Название:Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Прогресс-Традиция»c78ecf5a-15b9-11e1-aac2-5924aae99221
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-426-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Нестеров - Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века краткое содержание
Книга посвящена исследованию отношений английской живописи второй половины XVI – начала XVII в. и английской культуры как сложного целого. Восприятие культуры времен королевы Елизаветы I и короля Иакова IV требует внимания к самому духу времени, к идеям, что в ту пору «носились в воздухе» и составляли фон драм Шекспира и стихов Джона Донна, полотен Николаса Хилльярда и Джона Гувера. Чтобы понять искусство той эпохи, необходимо погрузиться в ее теологические искания, политические диспуты, придворные интриги, литературные предпочтения, алхимические эксперименты и астрологические практики.
Автор использует большой массив теологической, социальной информации, создающий контекст, в котором только и можно «увидеть эпоху», обнаружить глубинные смыслы в портретах, мозаиках, гравюрах и эмблемах.
Колесо Фортуны. Репрезентация человека и мира в английской культуре начала Нового века - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
На портрете графа Плимута модель стоит в три четверти, в парадном доспехе, правая рука на поясе, левая покоится на эфесе. В левом верхнем «окне» прорисована так называемая «Аллегория чистоты»: стоящий в пейзаже белый единорог, косуля на заднем плане, морды лошади и собаки в правом нижнем углу изображения и Амур с луком, целящийся из облака в правом верхнем углу «окна». Характерным образом единорог в «окне» соотносится с двумя единорогами, инкрустированными на левом и правом нагрудниках доспеха.
Портрет Эдварда Хоби (ил. 31) известен также как «Аллегория мира». На нем сэр Эдвард, в черном доспехе, стоит в три четверти, слегка опершись правой рукой на шлем, лежащий на столе, левая рука покоится на эфесе; по краю стола тянется лента с надписью: «VANA SINE VIRIBVS IRA» («Гнев без сил – тщетен»); в левом верхнем углу, над изображением родового герба модели написано: «An° dni 1583/Aetatis Suae 23» («Лето Господне 1583, в возрасте 23»); в правом верхнем углу, в «окне» изображена выходящая из ворот замка богато одетая дама, у ног которой сложены атрибуты войны – знамена, барабаны, кирасы и шлемы, в руке у дамы лента с надписью «RECONDU[N]TUR NO[N] RETU[N]DU[N]TUR» – «Отложены, но не затуплены», изображенной в правом верхнем «окне». [296]
Оба портрета акцентируют идею служения королеве: в первом случае единорог, несомненно, ассоциируется с королевой-девственицей, во втором – к Елизавете отсылает образ дамы, выходящей из замка.
«Импрессы» на этих портретах указывают на характер отношений «героев портретов» с их судьбой, описывая настоящее и формируя будущее.
Несколько иной тип комментария основного изображения в «окне» представлен на известном парадном портрете Елизаветы I, написанном после разгрома Великой Армады. В окне над правым плечом королевы (то есть там, где локализован ангел-хранитель человека) изображена атака английскими брандерами испанских судов, а над левым плечом – бесславный конец испанского флота, «добиваемого» ужасным штормом. При этом зритель видит русалку, вырезанную на левой стороне спинки кресла, в котором сидит королева: согласно легенде, русалки своим пением заманивали моряков на скалы, обрекая их гибели. Правая же рука королевы покоится на глобусе, причем – на изображении Американского континента, – подчеркивая претензии Британской короны на территории, традиционно до этого ассоциировавшиеся с испанскими (и отчасти – португальскими) владениями (ил. 32).
Но вернемся к Эдварду Расселлу. Первенец сэра Фрэнсиса Расселла и леди Маргарет Расселл, в девичестве Сент Джон, он родился в 1551 г., а умер в 1572 г., в возрасте 21 года, и был погребен 26 мая указанного года в Ченис, Беркфордшир. [297]
Портрет датирован 1573 г. – и странным образом на нем указан возраст юноши, до которого он не дожил: 22 года. Не менее странно выглядит в этом контексте и импресса – если исходить из тех ее функций «программирования судьбы», о которых говорилось выше, – ведь земная судьба модели завершилась! Напрашивалась мысль, что автор портрета настойчиво хотел подчеркнуть: жизнь не кончается со смертью, но продолжается в инобытии.
Но тогда связь между лабиринтом на портрете Эдварда Расселла и эмблемой из сборника Комба явно носит визуальный, а не смысловой характер, и оба изображения лабиринта восходят к некому общему первоисточнику.
Таким источником, предположительно, была эмблема из чрезвычайно популярного в ту эпоху сборника эмблем Клода Парадена «Героические девизы». Изданный впервые в Антверпене в 1567 г, в 1571 г. этот сборник был переиздан по-французски в Париже, и выдержал еще несколько континентальных изданий, [298]прежде, чем появиться по-английски в Лондоне в 1591 г.. [299]На одной из гравюр в этом сборнике можно увидеть схематичное изображение лабиринта, которому соответствует девиз «Fata viam invenient» – то есть именно тот девиз, который присутствует на портрете Эдварда Расселла. Параден дает эмблеме следующее истолкование: «Символ лабиринта, которым пользуется лорд Бойсдолфин, архиепископ Амбрюна, может означать, что мы находим путь по милости Бога, Который есть наш Вожатый». [300]

The heroicall devises of M. Claudius Paradin…London, 1591
Это истолкование вполне согласовывается с тем смыслом, «прочитываемым» на портрете: концентрический лабиринт, в котором стоит фигурка, судя по всему, является частью паркового ансамбля: за спиной молодого человека расположены два дерева, садовые дорожки, делящие газон на правильные прямоугольники, за ними живая изгородь с проходом в ней и уходящий вдаль холмистый пейзаж – этот парк соответствует Райскому саду [301]– и соответствие подчеркнуто тем, что проход в изгороди призван напоминать своеобразные Райские Врата, а два дерева за спиной юноши, в таком случае, отождествляются с Древом познания и Древом жизни. Характерно, что юноша развернут к ним спиной.

Henry Howkins. Parthenia Sacra: Or the Mysterious and Delicious Garden of Sacred Parthenes.Rouen, 1633
Подтверждением догадки о «райском» характере этого сада может служить гравюра на фронтисписе в сборнике эмблем и медитаций английского иезуита Генри Хоукинса «Parthenia Sacra: Or the Mysterious and Delicious Garden of Sacred Parthenes» [302](«Священная девственность: Сиречь загадочный и сладостный сад святых дев»), впервые вышедшего в 1633 г. в Руане по-английски.
На этой гравюре мы видим концентрический сад с симметрично разбитыми клумбами (отчасти эта конфигурация близка концентрическому лабиринту на портрете Эдварда Расселла), при этом в основании плана лежат две дорожки, пересекающиеся в центре сада, где расположен фонтан, и образующие символический крест. Сад окружен высокой стеной, в которой есть лишь одни-единственные ворота, обращенные к зрителю, а у ворот растут два дерева: пальма слева и олива – справа (два дерева при воротах сада мы видим и на изображении в окне нашего портрета). За оградой сада мы видим Феникса (слева) и лебедя (справа). На ветвях оливы сидит соловей – Филомела, символизирующая душу. На небе одновременно видны Солнце, Луна и звезды, а над горизонтом сияет радуга – символ завета Бога с человеком. [303]
Заметим: собственно, именно Райский сад всегда был моделью для парковых ансамблей [304]– моделью, по-разному преломляемой, но всегда актуализированной. Однако в интересующую нас эпоху в Англии, а чуть позже – на континенте наблюдается мода на искусственные лабиринты, вписанные в садовый ансамбль.
Инструкции по созданию садовых лабиринтов из различного рода кустарников становятся неотъемлемой частью книг по садоводству, начиная со второй половины XVI в. Укажем на «Кратчайший и приятнейший трактат, научающий разбивать, засеивать и сажать сад» [305](1563) Томаса Хилла и его же «Небесполезное искусство садоводства» [306](1579). Обратим внимание, что гравюра с изображением садовника в центре лабиринта из издания 1579 г. композиционно близка интересующему нас изображению в окне на портрете Эдварда Расселла. [307]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:


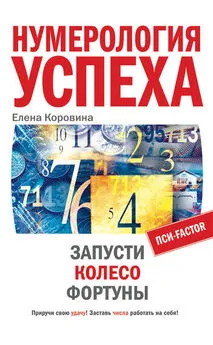
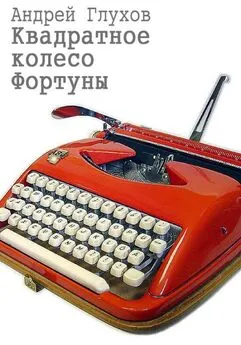
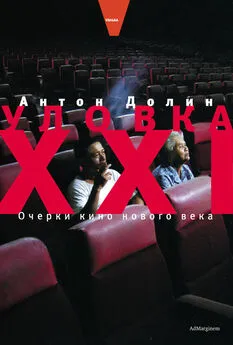

![Брайен Фрил - Колесо фортуны [=Кристал и Фокс]](/books/573533/brajen-fril-koleso-fortuny-kristal-i-foks.webp)