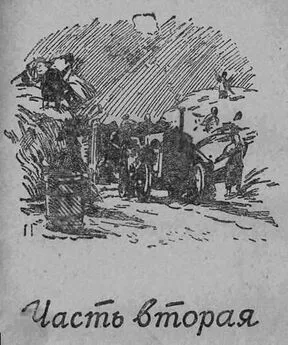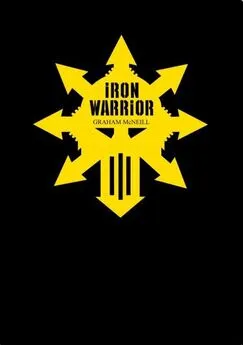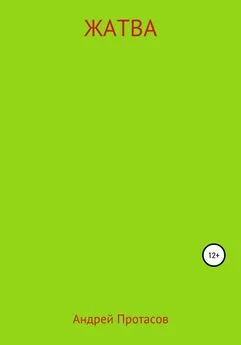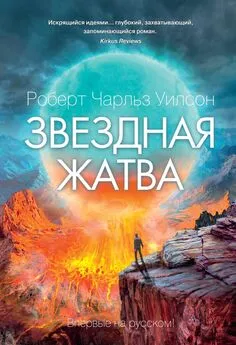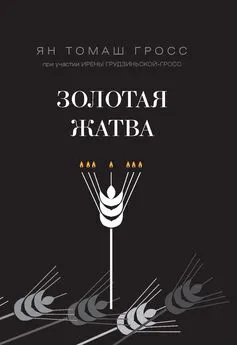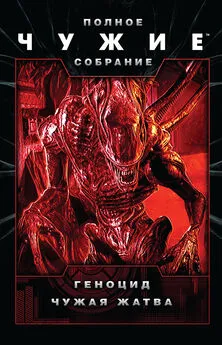Роберт Конквест - Жатва скорби
- Название:Жатва скорби
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Overseas Publications Interchange Ltd
- Год:1988
- Город:London, England
- ISBN:1870128 95 8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роберт Конквест - Жатва скорби краткое содержание
«…На сегодняшний день эта книга является единственным историческим отчетом о важнейшем периоде советского прошлого. Она отражает страшное время кровавой сталинской эпохи, тяжелейшее по числу своих жертв. В книге показано, как под тиранией Сталина и его приспешников было уничтожено все старое крестьянство, а вместе с ним вырублены и исторические корни русского, украинского и других народов. При отсутствии правдивой истории этих событий мне представляется важным, чтобы моя книга дошла до русского читателя…
…Утверждалось, что в 1932–1933 гг. не было голода, и разговоры о нем истолковывались как антисоветские выступления. И лишь несколько лет назад признали, что голод существовал, объясняя его саботажем кулаков и засухой. Неприятие такого объяснения интерпретировалось как антисоветизм. Позднее, однако, признали: голод был спровоцирован политикой правительства. Но по-прежнему не признавалось, что таков был замысел Сталина и его окружения. И эта точка зрения квалифицировалась как антисоветская. Сегодня в СССР признают, что и это имело место, однако утверждения, что погибло больше четырех-пяти миллионов, считают антисоветскими… Все это важно отметить хотя бы для того, чтобы показать, как постепенно снимаются в Советском Союзе «антисоветские» оценки. «Нечеловеческая власть лжи», о которой говорил Б.Пастернак, начинает рушиться…»
Роберт Конквест, Стэнфорд, Калифорния, 1988 г.
Жатва скорби - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, редактор мог удалить подобные мелкие неточности одним росчерком пера, согласовав с автором, но мне делать такую операцию не хотелось. Потому что в моих глазах они – как ни парадоксально это звучит – лишь украшали книгу: не имея, строго говоря, прямого отношения к проблематике и главным историческим сюжетам, эти мелочи выделяли, оттеняли, какую громадную работу пришлось проделать автору, чтобы поразить даже русского читателя (то есть, повторяю, того, для которого эти сюжеты привычны с детства) неимоверным количеством собранного нового материала по избранной теме и, главное, анализом документов, которые, как говорится, были у всех на виду, но никто ничего в них не понял (для меня лично шоком явилось истолкование Конквестом давно, со студенческих времен читанного письма Сталина Шолохову).
К числу особых достоинств Р.Конквеста я отношу его удивительное чутье к нащупыванию и истолкованию важнейших подробностей сюжетов, которые по какой-то причине остались недоисследованы: может быть, оно – это чутье – и составляет так называемый талант историка? Вот один из примеров. Р.Конквест уделяет немало места партийным «дефинициям» для кулака, середняка и бедняка и со сдержанным британским остроумием иронизирует над попыткой парт-идеологов навести «порядок» среди сельско-пролетарских «овец» и буржуазных «козлищ». Ему явно неизвестна концепция того из персонажей книги, которого он сам называет самым выдающимся российским экономистом той эпохи, А.В.Чаянова. Между тем, изучив жизнь деревни не в мгновенном ее срезе, но, напротив, в динамике развития, А.Чаянов пришел к выводу, что наличие бедняков, середняков и кулаков – не в традиционно-крестьянском смысле этих понятий, когда бедняком называли либо лодыря и пьяницу, либо несчастного мужика, сраженного болезнями, редкостным невезением и т.п., а кулаком того, кто существовал не «от земли», а за счет посторонних и доходных промыслов – а скорее уж в партийном смысле этих терминов, – так вот, Чаянов выяснил, что, видимо, бедняки, середняки и кулаки представляли собой, как правило, разные фазы в развитии одной и той же крестьянской семьи. Молодая пара начинала жизнь, естественно, как бедняцкая, потом появлялись дети, помощники в работе, хозяйство крепло и становилось середняцким; наконец, дети вырастали, женились, семья получала от «мира» дополнительный надел на новые «души», становилась зажиточной (по-большевистски –кулацкой), потом женатые дети «выделялись», и из большой кулацкой семьи возникало несколько малых бедняцких. Таков, по Чаянову, типичный цикл сельской жизни, и этот круг объясняет сложности, путаницу, неразбериху, парадоксы в трех крестьянских категориях, описываемых Р.Конквестом, – тех, в которых большевистские теоретики заблудились, как в трех соснах.
Кстати, это же объясняет, почему раскулачивание носило такой массовый характер, нанесло такой жуткий удар сельскохозяйственной экономике: из деревень изъяли не только лучших хозяев (и это, конечно, тоже), но и количественно самые большие и находившиеся на самом пике успешной хозяйственной деятельности трудовые семьи. Р.Конквест, видимо, не знал теорию Чаянова, но тем больше чести, что всем ходом своих рассуждений, всеми собранными им данными – и о семейном составе крестьян, и о величине их доходов, о товарности хозяйств – он подвел читателей к этим выводам, он поставил перед нами проблему и дал необходимые данные для ее решения.
Повторяю, главное достоинство его книги в том анализе, в той работе ищущей исследовательской мысли, которая делает труд важным и свежим, – свежим даже тогда, когда собранные автором факты перестанут быть новинкой для лишенного информации читателя. Здесь мне хочется сравнить ее с «Архипелагом ГУЛАГом» А.Солженицына, художественным исследованием, все непреходящее, гениальное величие которого стало ясно именно тогда, когда собранные писателем факты превратились в общеизвестные истины.
Со дня выхода «Жатвы скорби» в свет на английском языке прошло два «перестроечных» года, появились статьи о голоде Ю.Черниченко, о коллективизации – других авторов, более того, издан первый в истории СССР закон о «реколлективизации», то есть о праве крестьян на аренду земли. Если бы книга Р.Конквеста выделялась сегодня только публикацией новой информации, она бы удачно влилась в поток «перестроечной» литературы и довольно быстро осела на его дне. Но не такая ждет ее судьба, по моему глубокому убеждению.
Р.Конквест – английский автор, а определение национальности автора обусловлено не кровью, текущей в его жилах, но тем, к какому читателю он обращается, с кем хочет общаться на страницах своей книги, кого мысленно видит, сидя за машинкой или держа в руке перо. Книга Конквеста обращена сначала к англичанам и, во вторую очередь, ко всем остальным жителям западного мира: он хочет разрушить предубеждения, предрассудки и аморальную позицию именно «своих», а не российских читателей. Но она оказалась написана так, что выглядит необходимой прежде всего читателю страны, о которой «сказ сказывается», – СССР. Во всяком случае, так это представляется мне, человеку, большую часть сознательной жизни бывшему российским историком и литератором.
Почему? Что представляется самым важным, почти шоковым выводом, поражающим даже сегодня и, убежден, неизвестным и чрезвычайно важным феноменом для любого российского читателя? Вот он: тройной удар по крестьянству начала 30-х годов (раскулачивание, коллективизация, террор голодом) не имел никакого положительного социального смысла. Эта фраза означает, что ни один социальный слой в стране, включая и партию, не получил никаких выгод от того, что были ограблены и погублены миллионы людей. Разве что считать выигравшими Кагановича, унаследовавшего место Бухарина, Молотова, перенявшего должность у Рыкова, Шверника, сменившего Томского, Хрущева, постепенно прибравшего к рукам углановские функции, и еще кучку политических дельцов, сделавших на этой катастрофе свои карьеры.
Р.Конквест справедливо отмечает, что не только сторонники Сталина, но и все его противники видели в «тройном ударе по мужику» некий огромный замысел, некую (пусть сатанинскую) цель. В СССР и на Западе сторонники Сталина до сих пор говорят, что ценой этих миллионов жертв удалось форсированными темпами «превратить Россию в великую индустриальную державу», благодаря чему и была одержана победа над Гитлером, и это обеспечило конечное спасение российской нации и всего мира! Именно по сему мифу книга Конквеста и наносит убийственный удар, попадая в центральный поток бушующих сегодня в Союзе дискуссий. Автор, опираясь на данные, опубликованные советскими экономистами типа Барсова, истолкованные западными специалистами вроде Миллара, пришел к выводу, что если брать не частную цифирь – количество зерна, отобранного государством у мужиков, а соединить все суммы, весь баланс расходов и доходов советской казны в совокупности, выяснится поражающая воображение картина: не только сельское хозяйство в общем итоге не дало казне за счет реквизиций через колхозные каналы дополнительных средств для развития промышленности, но, напротив, оно поглотило – пусть и небольшую – часть государственных доходов даже сверх того, что у мужиков удалось отобрать! Не только в социальном, значит, плане, когда в убытки следует занести гибель миллионов людей, то есть – потенциальных налогоплательщиков, потенциальных солдат (я умышленно учитываю только социальные и материальные убытки), или уничтожение лучших «мастеров урожая», как их называет сегодня советская пропаганда, то есть подрыв самой основы сельского хозяйства, но даже в плане примитивном, бухгалтерском, когда на одной половине страницы записаны доходы вследствие отобранного у производителей урожая, а на другой – расходы на создание штатной администрации там, где ее раньше не было (и не было в ней нужды), или на машины, которые заменили уничтоженную тягловую силу, или на капитальные вложения в новые хозяйства взамен разрушенных старых, и когда подбивается общий итог казенных расходов и доходов, выясняется, что и чисто бухгалтерски уничтожение миллионов людей принесло их палачам небольшие убытки! Или другой расчет, когда на одну половину занесли доходы от награбленного «кулацкого имущества», а на другую какой-то западный исследователь догадался занести примерные подсчеты расходов на депортацию миллионов людей, которые ведь не только перестали давать государству налоги и продукты, но, напротив, пусть впроголодь, но их приходилось кормить «пайкой», пока они не построят собственные дома, кормить вновь созданные комендатуры и прочих паразитов и т.д., и вдруг выясняется, что расходы-то на депортацию едва ли не превысили доходы от грабежа «кулацкого» имущества… Короче говоря, если и была создана новая индустрия в СССР 30-х годов, то вопреки коллективизации, а не благодаря ей (во всяком случае, в бухгалтерском аспекте этой проблемы)!
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: