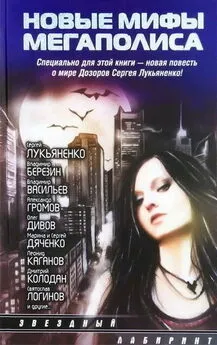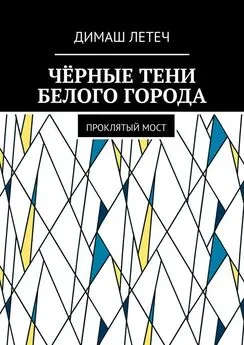Анджей Иконников-Галицкий - Чёрные тени красного Петрограда
- Название:Чёрные тени красного Петрограда
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Страта»
- Год:2017
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-9500266-3-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анджей Иконников-Галицкий - Чёрные тени красного Петрограда краткое содержание
Чёрные тени красного Петрограда - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Грянул гром: Февральская революция. Обложенный со всех сторон, как волк, царь капитулирует в Пскове. В Петрограде радостная неразбериха: уголовники разбежались из тюрем, солдаты ходят без шапок, стреляют во что попало, кто-то митингует, кто-то грабит магазины… Депутаты Прогрессивного блока в Таврическом дворце формируют правительство. Правда, проблема: кто будет главным — октябристы или кадеты? Кто вместо царя — Гучков или Милюков? Целых два дня решали, согласились на ничью. 3 марта был объявлен состав Временного правительства. Председатель — безликий Г. Е. Львов, компромиссная фигура; Милюков и Гучков — при главных портфелях. Кадеты вообще на коне: Шингарёв получает пост министра земледелия, его соратник по Думе В. А. Маклаков — пост председателя Юридического совещания в ранге министра. Через две недели Маклаков куда-то делся, и на его место двинули Кокошкина.
У Шингарёва деятельность на министерском посту не заладилась. Говорить с трибуны оказалось проще, нежели решать проблемы обустройства 120 миллионов крестьян и продовольственного снабжения 25 миллионов городских жителей. Тут не мог помочь «особенный, подкупающий тембр голоса». Два месяца Шингарёв честно боролся с трудностями. Плоды его министерской активности противоречивы. Созданные по его инициативе Земельные комитеты повсеместно подпадали под влияние соперников слева, социалистов; в Главном земельном комитете безраздельно верховодили эсеры. Их аграрные обещания (полная экспроприация частновладельческих земель) встречали дружную поддержку крестьян. И не на словах, а на деле начались самочинные захваты земли и расправы с помещиками. Тем временем катастрофически ухудшилось положение с продовольствием в городах. Если в вопросе о земле Шингарёв вынужден был, против убеждений, тащиться за эсерами, то в организации снабжения, тоже против убеждений, был вытолкнут на путь, проторённый «проклятым царским режимом» (а впоследствии освоенный большевиками). Продовольственная диктатура, обязательная сдача крестьянами продовольствия по твёрдым ценам — это уже было в 1916 году; введение нормированного распределения (карточной системы) стало новшеством шингарёвского министерства.
Шидловский в своих «Воспоминаниях» утверждает: «Шингарёв издал постановление, на основании которого частные хозяйства обязаны были весь свой урожай сдавать в казну, имея право оставить в своём распоряжении только семена и необходимое продовольствие, вычисленное на основании приложенных к постановлению норм. Нормы эти были так нелепо малы, что держаться их было невозможно: так, например, круп на 1 человека в месяц полагалось столько, сколько рабочий съедал в день». В ночь с 6 на 7 января 1918 года озверевшие матросы и красногвардейцы шли в больницу убивать Шингарёва с криками: «Вырезать! Лишние карточки на хлеб останутся!». Судя по всему, пролетарии неплохо запомнили, кто именно ввёл в стране эти самые хлебные карточки.
Приезд Ленина в Петроград, «Апрельские тезисы», бьющие по всем слабым местам Временного правительства, а с другой стороны — «Нота Милюкова», воспевающая «верность России союзническим обязательствам» (вот они, франкофильство и англомания русских либеральных интеллигентов!) — всё это привело к взрыву. Вооружённые толпы чуть не взяли штурмом Мариинский дворец, в котором гнездилось слабосильное правительство. «Почуяв холод безнадёги», величаво ушёл в отставку Милюков; смылся разочарованный Гучков. По решению Львова в правительство позвали социалистов. Шингарёв с радостью уступил своё неблагодарное место эсеру Чернову. Следующие два месяца он промучился в коалиционном составе правительства в должности министра финансов.
Деятельность Кокошкина разворачивалась, казалось, более ровно и планомерно. Ему было поручено возглавить разработку проекта положения о выборах в Учредительное собрание. Башмак как раз по ноге. Главное — свобода от ужаса общения с революционными массами. Сиди себе в кабинете, сочиняй закон. Кокошкин, в отличие от Шингарёва, не претендовал на лавры оратора-трибуна: щуплый, прилизанный, в пенсне, поблёскивающем над нелепо закрученными вверх усами, да ещё в старомодном сюртуке, косноязычный, картавый… Какой-то андерсеновский сказочник. Рядом с ражими кронштадтскими матросами, матерящимися и сплёвывающими солдатами, хмурыми рабочими питерских окраин — фигура комическая. В кабинете Кокошкин работал много, усердно. К сентябрю было готово положение о выборах в Учредительное собрание, составленное в соответствии с лучшими рецептами гражданско-правовой либерально-демократической кухни.
Тут надо отметить: мало в России было таких пламенно любимых идей, как идея Учредительного собрания. Общество было просто влюблено в эти два слова, как семнадцатилетний юноша в недоступную деву, ангела красоты. Кокошкин слыл одним из первых творцов идеи — ещё в 1903 году, во времена полулегального «Союза освобождения», из коего потом выросла кадетская партия. Февральская революция произнесла заветное имя, едва научившись говорить: 3 марта, в день опубликования манифеста об отречении Николая II, его преемник Михаил официально заявил, что не может принять державу иначе, как из рук всенародно избранного Учредительного собрания. Кстати говоря, и правительство именовалось «Временным» с оглядкой именно на Учредительное собрание. И министры, и депутаты Советов, и либералы, и социалисты — все ждали его пришествия, тем более что создавался удобный повод не решать никаких больных проблем. Вопросы государственного устройства, войны и мира, прав наций, наконец, мучительнейший аграрный вопрос — всё это откладывалось из месяца в месяц «до созыва Всероссийского Учредительного собрания». И пророк Симеон — Кокошкин — холил и лелеял чудесное дитя. Или, как повивальная бабка, готовился к чуду рождения (с 3 марта до 28 ноября — почти 9 месяцев).
Разработанное им положение о выборах было одобрено Демократическим совещанием (ещё одно совещание! Сколько ж их было!) в сентябре, на трагической сцене Александрийского театра. В основе — всеобщее, равное, тайное и прямое избирательное право. Такого дотоле не было ни в одной стране, даже в Соединённых Штатах. Голосование по партийным спискам — защита от шарлатанов и мелких аферистов. Число мандатов (более 800) гарантируовало полноту представительства и работоспособность. Подготовка к выборам началась.
Одно плохо: власть рушилась. Эсеры, главенствовавшие в правительстве с июля месяца, оказались такими же бессильными пловцами по течению, как и кадеты. Напор слева нарастал. Большевики, хлопнув дверью, ушли с Демократического совещания — и сразу же после этого победили на выборах в Петросовет. Но хуже всего было другое: за большевиками-ленинцами проступали мрачные контуры ещё более радикальных ультрареволюционных сил. На их фоне Ленин, больше стремившийся к власти, чем к разрушению, уже выглядел умеренным. Это даже не пролетариат и крестьянство, а неуправляемая орда люмпенов, расхристанных матросов, осатаневших от безначалия тыловых солдат, городских хулиганов, уголовников всех мастей, коим безнаказанность была гарантирована революционной анархией, а оружие и неограниченную власть давало удостоверение красногвардейца.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: