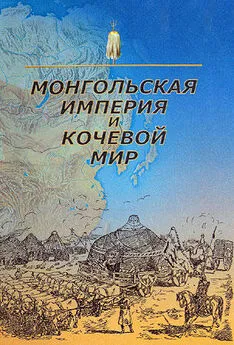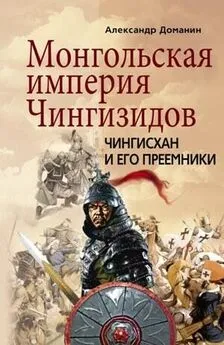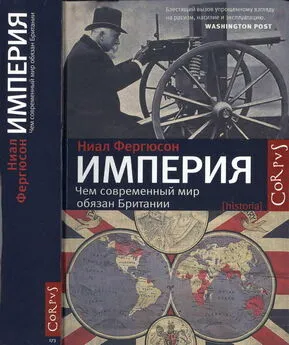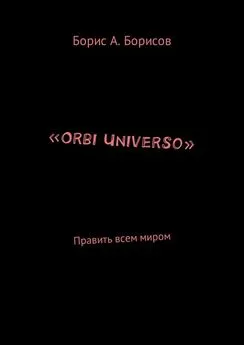Борис Базаров - Монгольская империя и кочевой мир
- Название:Монгольская империя и кочевой мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Бурятский научный центр СО РАН
- Год:2004
- Город:Улан-Удэ
- ISBN:5-7925-0066-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Борис Базаров - Монгольская империя и кочевой мир краткое содержание
Книга будет полезна не только специалистам в области истории, археологии и этнографии кочевого мира, но и более широкому кругу читателей, интересующихся историей кочевничества, монгольской истории и истории цивилизаций, в том числе преподавателям вузов, аспирантам, студентам.
Монгольская империя и кочевой мир - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Khazanov A.M. 1984. Nomads and the Outside World. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
Lattimore O. 1940. Inner Asian Frontiers of China. New York and London.
Часть I
Кочевой мир
Н.Н. Крадин
Комплексные общества номадов в кросс-культурной перспективе [1] Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ (02-06-80379) и РГНФ (02-01-176а).
Несмотря на обилие общетеоретических работ в области кочевниковедения, нельзя сказать, что проблема интерпретации номадизма в контексте всемирной истории обстоятельно разработана. Имеется несколько наиболее влиятельных парадигм исторического процесса, в число которых входят стадиальные однолинейные и многолинейные теории (теория модернизации, неоэволюционизм, марксизм, мультиэволюционизм), цивилизационный и мир-системный подходы [Chase-Dunn, Hall 1997; Павленко 1997; 2002; Бентли 1998; Валлерстайн 1998; Сандерсон 1998; Коллинз 1998; Sanderson 1999; Claessen 2000; Грин 2001; Ионов, 2002; Ионов, Хачатурян 2002; Розов 2001; 2002; Коротаев 2003; Крадин 2003 и др.].
В рамках теории модернизации, одного из наиболее влиятельных теоретических направлений на Западе, пожалуй, только Г. Ленски включил кочевые общества в свою типологическую схему в качестве бокового, по сути «тупикового», варианта общественного развития [Lenski 1973, p. 132].
Неоэволюционистские антропологи, занимавшиеся типологией политических систем, также фактически упустили кочевников из своих построений. Если обратиться к наиболее авторитетным работам этого методологического направления, то мы не найдем в них ни разделов, обсуждающих место номадизма в рамках их построений, ни тем более специальных типологий собственно кочевых скотоводческих обществ. Концепция М. Фрида включает четыре уровня: эгалитарное, ранжированное, стратифицированное общества, государство [Fried 1967]. Согласно Э. Сервису, таких уровней больше: локальная группа, община, вождество, архаическое государство и государство-нация [Service 1971; 1975]. Последняя схема впоследствии неоднократно уточнялась и дополнялась [см., например: Johnson, Earle 2000], однако, как правило, вопрос о специфике социальной эволюции обществ кочевников скотоводов особо не рассматривался. В лучшем случае номады используются как пример «вторичного» племени или вождества, отмечаются военизированность их общества и создание пасторальной государственности на основе завоевания аграрных цивилизаций [там же, p. 139, 263–264, 294–301].
Несколько более популярна тема кочевников в трудах сторонников мир-системного подхода [Chase-Dunn 1988; Abu-Lughod 1989; Hall 1991; Chase-Dunn and Hall 1997 etc.], однако угол зрения, под которым рассматриваются в этих работах кочевники, выходит за рамки настоящей статьи. В исследованиях же западных авторов, специально занимавшихся проблемами социокультурной эволюции номадов, подчеркивается, как правило, отсутствие у кочевников внутренних потребностей к созданию прочных форм государственности, циклический характер политических процессов, появление перспектив к устойчивому развитию только в случае симбиоза с земледельцами [Lattimore 1940; Khazanov 1984; Fletcher 1986; Barfield 1989; Golden 1992; 2001 etc.].
Гораздо больше внимание проблеме периодизации номадизма в рамках мировой истории уделялось в марксистской и особенно советской литературе. Однако в рамках марксистского подхода исследователи либо классифицировали кочевников по соответствующим формациям (отсюда получалось, что типологически сопоставимые степные империи хунну, тюрок и монголов являлись соответственно рабовладельческими, раннефеодальными и сложившимися феодальными государствами), либо, сосредоточившись на критике формационной схемы, спотыкались на вечном вопросе: могли ли номады самостоятельно преодолевать барьер государственности [подробнее см.: Федоров-Давыдов 1973; Хазанов 1975; Марков 1976; 1989; 1998; Першиц 1976; 1994; Коган 1981; Халиль Исмаил 1983; Khazanov 1984; Попов 1986; Gellner 1988; Крадин 1992; 2001; Васютин 1998 и др.].
Тем не менее, в рамках марксистского и неомарксистского подходов была выдвинута важная концепция номадного способа производства, которая поставила под сомнение корректность универсалистских построений, основанных на интерпретации только оседло-земледельческих обществ [Марков 1967; Bonte 1981; 1990; Масанов 1991; Калиновская 1996 и др.]. Впоследствии появились другие построения, акцентирующие внимание на завоевательном ( экзополитарном , ксенократическом ) характере кочевых империй [Крадин 1990; 1992; 2000; 2002 и др.]. Претензии на универсализм сторонников идеи номадного способа производства были отвергнуты [Калиновская 1994; Крадин 1996], хотя нельзя не отметить эвристическую ограниченность всех основных моделей, сформулированных советскими/российскими учеными в два последние десятилетия прошлого века. Одни авторы недооценивали милитаризированность номадов и строили свои схемы в основном на материалах нового времени [Марков 1989; 1998; Калиновская 1996], другие использовали в своих концепциях, главным образом, данные по Западной Евразии [Плетнева 1982], третьи конструировали свои построения на примерах из Восточной Евразии [Крадин 1992].
Необходимо иметь в виду, что в разных экологических условиях создавались разные модели адаптации кочевников [Khazanov 1984] к внешним земледельческим культурам и цивилизациям и, следовательно, могли возникать разные типы политических систем номадов [Fletcher 1986; Barfield 1989; 1993; Golden 2001]. По этой причине, возвращаясь к проблеме соотношения моделей номадного способа производства и ксенократической кочевой империи, правильнее было бы интерпретировать их, с одной стороны, как две разные стадии развития кочевых обществ [Васютин 2002] и, с другой — как два разных результата культурной адаптации номадов к геополитическим условиям.
Данное обстоятельство учитывалось в типологиях обществ кочевников-скотоводов (речь идет именно о типологиях собственно кочевых обществ, а не универсальных схемах, в которых бы кочевникам отводились определенные позиции). В той или иной степени большинство схем основаны на степени вовлеченности номадного общества в седентеризационные и аккультурационные процессы оседло-земледельческих цивилизаций и затрагивают в основном степные империи [Wittfogel, Feng 1949; Tamura 1974; Хазанов 1975; Плетнева 1982; Khazanov 1984; Крадин 1992; 2000; Barfield 2000 и др.]. Касательно степени сложности кочевниковеды, в лучшем случае, могли отмечать децентрализованное и централизованное состояния кочевых обществ (как в делении Г.Е. Марковым [1976] на «общинно-кочевое» и «военно-кочевое» состояния), но не более. В этой связи трудно не согласиться с мнением С.А. Васютина, что проблема типологии обществ номадов является одной из наиболее актуальных в кочевниковедении [1998, с. 19–20, 22].
Осознавая важность не только рассмотрения номадизма в рамках общеисторических схем [Крадин 1992], но и необходимость создания типологий собственно кочевых обществ, автор этих строк предложил разделять по степени сложности кочевые общества на три группы:
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: