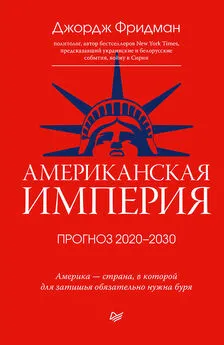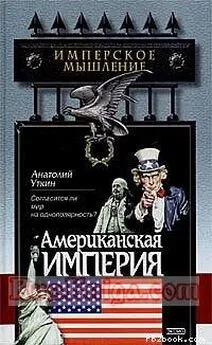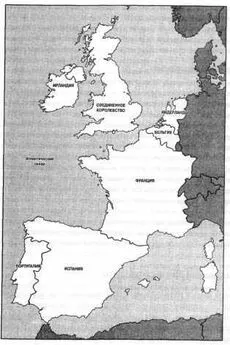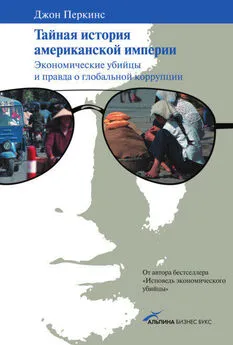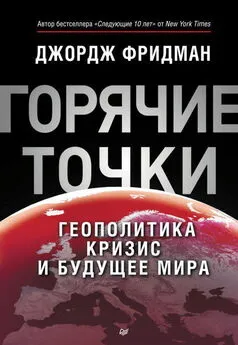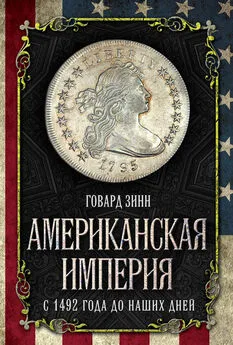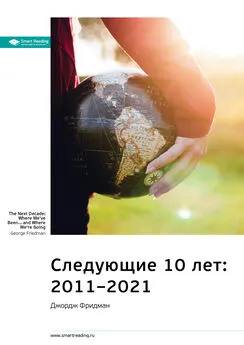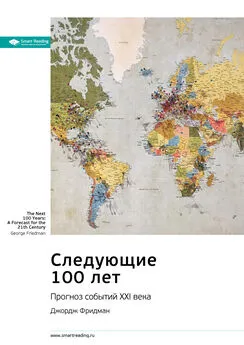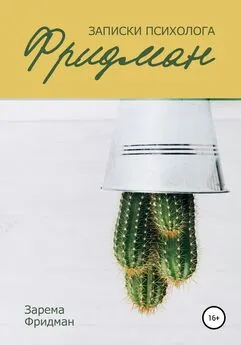Джордж Фридман - Американская империя. Прогноз 2020–2030 гг.
- Название:Американская империя. Прогноз 2020–2030 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Питер
- Год:2021
- ISBN:978-5-4461-1720-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Джордж Фридман - Американская империя. Прогноз 2020–2030 гг. краткое содержание
Американская империя. Прогноз 2020–2030 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стоимость обучения в университетах поражает: она просто непомерна. Чтобы дать некоторое представление о цене образования, достаточно сообщить, что общий объем кредитов на обучение сейчас составляет $1,34 трлн. Для сравнения: общая ипотечная задолженность сегодня достигает $8,4 трлн, а в 2008 году этот показатель был также на уровне $1,3 трлн. Подобно тому как деривативы по ипотечным кредитам были объединены и проданы, то же самое происходит сейчас со студенческими кредитами. Если конгломераты Fannie Mae и Freddie Mac скупали ипотечные кредиты, чтобы обеспечить ликвидность на ипотечном рынке, то их государственный аналог для студенческих кредитов Sallie Mae покупает, объединяет и перепродает кредиты на образование.
Каковы бы ни были основные проблемы, большинство циклов заканчиваются или начинаются в условиях финансового кризиса. Образовательно-кредитный кризис не будет похож на ипотечный кризис 2008 года, но тем не менее будет иметь дело со столь же значительным денежным объемом: среднестатистический студент берет в кредит порядка $35 тыс. за весь срок обучения в колледже, а менее обеспеченные студенты государственных учреждений берут наиболее значительные кредиты, поскольку у них меньше всего первичных средств. Они и зарабатывать будут гораздо меньше, чем выпускники Гарварда, а это значит, что развивается кредитный класс. Однако отсутствие высшего образования ведет к еще более неприятному результату, потому что без соответствующего диплома молодые люди лишаются какой-либо надежды на социальный лифт.
Почему высшее образование стоит так дорого? Ответ лежит в двух плоскостях. Во-первых, многие студенческие городки, особенно в элитных университетах, – верх шика. Я учился в Корнелльском университете, необычайно красивом месте, в котором мне нравилось все, от площадки для ракетбола до озер. Ни один человек в здравом уме не будет там несчастлив, но стоимость строительства и содержания университетского городка потрясает. Более того, университетская собственность в случае продажи существенно облегчила бы проблему студенческих кредитов. Нет ни одной веской причины, объясняющей, почему высшее образование требует таких финансовых вложений. Кроме этого, я учился в Городском колледже Нью-Йорка (CCNY), а его студенческий городок гораздо более скромный. И я не заметил, чтобы роскошный кампус Корнелльского университета стимулировал мою интеллектуальную активность лучше, чем условия CCNY.
Вторая проблема – в том, что должность университетского профессора является одной из самых высокооплачиваемых в мире работ на условиях неполной занятости. Семестр в среднем длится 13–14 недель. Предположим, неделя уходит на экзамены, тогда штатные преподаватели в среднем работают шесть месяцев в году. В этот период они могут вести в элитных заведениях 1–2 занятия в неделю, то есть их нагрузка составляет примерно шесть часов в неделю (может доходить до двенадцати часов в неделю в наименее престижных университетах). Профессор преподает предмет, в котором является специалистом, поэтому время на подготовку минимально, а в университетах с аспирантскими программами усвоение материала студентами проверяют аспиранты. Предполагается, что преподаватель будет заниматься исследованиями и публикациями, и некоторые так и делают, в то время как другие – те, у которых большой стаж работы, – о подобном заботятся меньше. Хотя в связи с этим возникает еще один вопрос – о реальной значимости этих публикаций. В рамках своей научной карьеры я опубликовал ряд статей, общественная польза от которых была совершенно не видна.
Университеты осознают непомерную стоимость этой системы и сокращают расходы, задействуя внештатных преподавателей, которые могут преподавать, но не имеют при этом контракта на постоянную, полную занятость. Внештатники хватаются за любую, крайне низко оплачиваемую работу, по сути заполняя собой пропасть между тем, что необходимо, и тем, на что хватает денег. Должность внештатного преподавателя гораздо менее престижна, чем штатного, но это не означает, что первые знают меньше или преподают хуже, чем те, у кого контракт на полную ставку. Впрочем, вполне вероятно, что навыки внештатников со временем теряются из-за неопределенности их рабочего статуса. Если же возникает необходимость снизить издержки, университет расстается с внештатниками, никак не ущемляя штатных преподавателей.
Я не хочу здесь поливать грязью университеты. Вузы необходимы. Однако в нынешней своей форме они невыносимы. Стоимость высшего образования слишком высока. Снижение стоимости, набор большего количества учащихся и улучшение качества образования – настолько же насущная проблема, как и нехватка капитала при Рейгане или безработица при Рузвельте. Для снятия остроты социальных и экономических проблем в 2030-х годах необходимо призвать на помощь население и восстановить восходящий вектор социального движения. Университет – средоточие и самой проблемы, и путей ее решения. Кроме того, теперь университеты становятся также центром политического противостояния.
Особого внимания заслуживает такая фраза из издания The Atlantic :
В 2016 году из 160 тыс. студентов, проходивших обучение по 36 наиболее престижным программам бакалавриата, лишь 645 человек , то есть 0,4 %, являлись ветеранами боевых действий.
Надеюсь, что престижные университеты зачисляют столь ограниченное количество ветеранов боевых действий не по идеологическим причинам. Их так мало, потому что вузы видят своими студентами скорее детей тех, кто похож на университетских управленцев. Нынешние высшие учебные заведения совершенно не соответствуют миссии, возложенной на них после Второй мировой войны: не только допускать ветеранов к высшему образованию, но и специально создавать условия для социального продвижения тем, кто совершенно не похож на среднего студента элитного университета. И я подозреваю, что большинство ветеранов не станут подавать документы в престижные заведения, понимая, что их не примут, что это – не для них.
То, что сфера высшего образования превратилась в столь фундаментальную проблему, не должно удивлять. Ее корни – в Северо-Западном ордонансе 1787 года, который был предложен Томасом Джефферсоном в 1784-м. Этот документ обязывал каждый штат основать собственный университет. Джефферсон и его соратники верили, что развитие подобных университетов создаст класс образованных фермеров и торговцев, а это будет способствовать развитию экономики и распространению основ демократии. Ожидалось, что выпускники этих университетов станут образованными лидерами своих общин и изобретателями будущего.
Современный университет – настоящее поле боя в кризисе 2020-х, потому что эта система сама снабжает топливом обширную бюрократическую прослойку общества. Если что-то и должно поменяться в недрах бюрократии, то в первую очередь это касается университетов. Необходим новый наплыв студентов. Во-первых, для того, чтобы получить знания и дипломы, которые позволят им влиться в ряды технократов. А во-вторых – чтобы изменить технократию, потому что ее культурная модель отличается от соответствующей модели ее оппонентов. И если произойдет сдвиг технократической культурной модели и связанных с ней ценностей, то изменится и ее способ функционирования. Это, в свою очередь, приведет к трансформации институтов, государственных и частных, точно так же как эволюция в области технологий вновь запустит рост производительности и, следовательно, экономики. Вопрос о том, каким будет университет, – на самом деле вопрос о том, какой будет технократия.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: