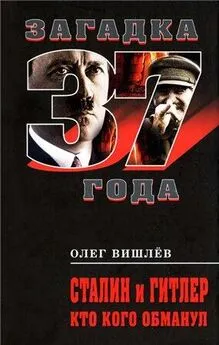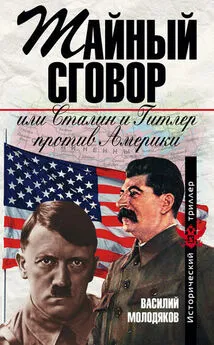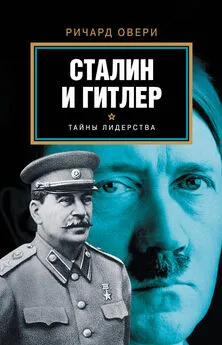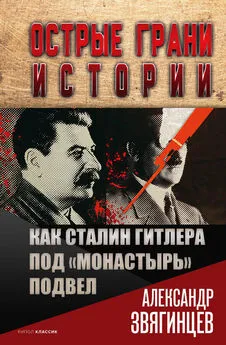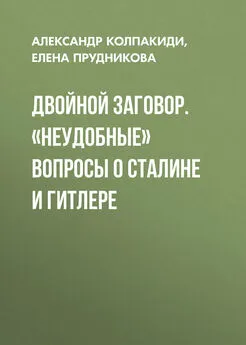Александр Колпакиди - Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями]
- Название:Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОЛМА-ПРЕСС
- Год:2000
- Город:Москва
- ISBN:2-224-00715-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Колпакиди - Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями] краткое содержание
Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В остервенении борьбы у крестьян вывозили все зерно подчистую. Тогда они стали имитировать кражи — по ночам воровали сами у себя зерно. Ответом на это стал Закон о трех колосках. За хищение государственного, колхозного и кооперативного имущества предусматривался расстрел, который мог быть заменен лишением свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества. По закону, принятому в августе 1932 года, уже к началу 1933 года было осуждено около 55 тысяч человек. Из них 2100 человек были приговорены к высшей мере наказания, а приведены в исполнение приговоры примерно в 1000 случаев.
Все эти меры вызвали новый всплеск восстаний. Особенный размах сопротивление приняло на Украине, которая как теперь, так и тогда тяготела к «самостийности». Там крестьянские восстания нередко переходили в националистические и проходили под лозунгами «За самостийную Украину». В начале 30-х годов там активно действовали подпольные организации «Союз освобождения Украины», «Украинский национальный центр» и «Украинская войсковая организация».
Для подавления выступлений применялись вооруженные силы, вплоть до авиации. Потери правительственных частей исчислялись тысячами. По рекам Северного Кавказа плыли трупы солдат. Красноармейцы — сами вчерашние крестьяне — часто просто переходили на сторону восставших. Слава Богу, такие случаи были единичными, и вся армия не сдетонировала. В конце концов выступления были подавлены. Десятки тысяч их участников были расстреляны, сотни тысяч отправлены в концлагеря и в ссылку.
В ходе хлебозаготовок было вывезено все, что еще оставалось в деревнях. В 1933 году ряд районов постигла засуха, и начался голод. Голодающим, особенно на Украине, никто не помогал. Половина голодных смертей 1933 года пришлась на самую плодородную из советских республик. И только после того как миллионы людей умерли от голода — а умерло 3,3―3,5 миллиона человек — сопротивление было сломлено. Наиболее сильная, активная часть крестьянства была отправлена в лагеря и ссылки, переселена в Сибирь. После освобождения, если оно все-таки приходило, эти люди уже не возвращались в деревню, пополняя население городов и трудовую армию строек. Началось бегство крестьян из деревни. Бежали опять же самые инициативные. Этой страшной ценой — ценой голода и выбивания активной части населения — была достигнута полная управляемость деревни. Больше «хлебные стачки» стране не грозили. Крупное высокотоварное сельскохозяйственное производство было создано в России за считанные годы.
…В воспоминаниях Черчилля приводится беседа со Сталиным, относящаяся к августу 1942 года.
«— Скажите мне, — спросил Сталина Черчилль, — на Вас лично так же тяжело сказываются тяготы этой войны, как проведение политики коллективизации?
— Ну, нет, — ответил Сталин, — политика коллективизации была страшной борьбой.
— Я так и думал, что Вы считаете ее тяжелой, ведь Вы имели дело не с несколькими тысячами аристократов или крупных помещиков, а с миллионами маленьких людей.
— С 10 миллионами, — сказал Сталин, подняв руки. — Это было что-то страшное. Это длилось четыре года».
Глава 7. Реальный смысл смешного слова
Мы люди коммерческие…
Густав НобельСредства, выкачанные из деревни, накачивались в промышленность. Там, в общем-то, дела шли более менее гладко. Конечно, резкое ухудшение материального положения в начале 30-х годов, связанное с коллективизацией, вызвало массовое недовольство, не нравились народу и уж очень резкие и грубые меры поощрения передовиков производства, местами были и волнения, и стачки, но на фоне крестьянской войны все это мелочи. А вот трудовой энтузиазм был неподдельным. И вообще рабочие, собранные в большие массы на заводах и стройках, были куда легче управляемы, чем те же мужики. С рабочими волнениями правительство справлялось. Однако существовала одна проблема, которая сейчас тоже объявлена несуществующей по причине абсурдности. Проблема заключалась в том, что у заводов, фабрик, рудников существовали бывшие хозяева. А поводом для обвинения в абсурдности стал неудачный термин, смешное слово…
И в самом деле, смешное слово — «вредительство». Ходят в цехах, на шахтах какие-то люди и из чистой вредности вредят, вредят, вредят… Однако, когда начинаешь знакомиться с конкретным содержанием этого термина, оказывается, что в нем много до боли знакомого и совсем не смешного. То есть десять лет назад было еще смешно, а сейчас, после десяти лет экономической реформы, — нисколько. Мы все эти явления глазами увидели, руками пощупали, желудком ощутили и масштабы померили. Кто такие многочисленные наши приватизаторы? Директор вашего завода, хапнувший изрядный пакет акций и под шумок разворовавший все, что плохо лежит и не раскалено добела? А чиновник из министерства, покупающий американские трактора вместо того, чтобы купить в пять раз более дешевые наши? А арбитражный судья, который за пакет с долларами ставит внешним управляющим на завод откровенного жулика? Все это и есть содержание старого смешного термина, который никто не принимает всерьез. И масштабы его были… ну, может быть, не такие, как сейчас, потому что сейчас просто все сожрали… но крупные были масштабы. Любит денежки человек, с этим ничего поделать нельзя.
В промышленности, как и в военном деле, Советское правительство вынуждено было широчайшим образом пользоваться услугами «спецов». Специалисты дело свое знали — это так. Однако было у них два ма-а-а-леньких недостаточка. Во-первых, они, хорошо зная дело, умели организовать его так, что весьма изрядная часть прибыли текла в их собственные карманы. Во-вторых, они хорошо помнили прежних хозяев, держали с ними связь и старались всячески услужить, как за деньги, так и за будущие блага, ибо в то, что большевики долго продержатся, тогда никто не верил.
Сразу после революции крупные деятели русской промышленности создали в Париже «Торгово-промышленный центр» (сокращенно «Торгпром»). В 1922 году появился секретный совет Торгпрома. Цель его была проста и откровенна — организация борьбы с Советской властью. В его состав вошли такие акулы бизнеса, как Густав Нобель, бывший владелец нефтяных предприятий, миллионеры братья Гукасовы, С. Г. Лионозов, С. Н. Третьяков и др. Все они сумели спасти свои капиталы от революции, поэтому в средствах Торгпром недостатка не испытывал.
Одним из видов деятельности Торгпрома было прямое финансирование террора. Но было ли это единственным видом его деятельности, когда на территории Советской России оставалась колоссальная собственность, о которой вспоминали, мечтали, о которой сны видели и Нобель, и братья Гукасовы, и прочие, прочие, прочие?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Александр Колпакиди - Двойной заговор. Сталин и Гитлер: несостоявшиеся путчи [с иллюстрациями]](/images/nocover.webp)