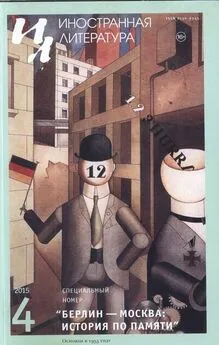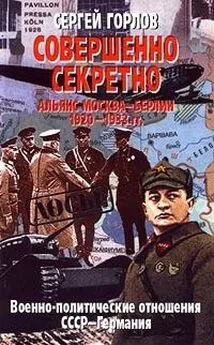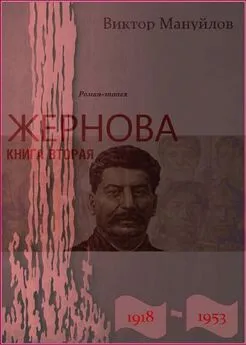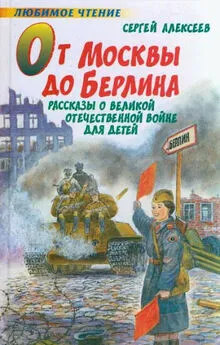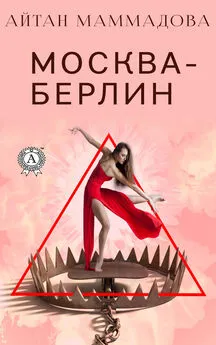Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти
- Название:Москва – Берлин: история по памяти
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Иностранная литература
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гюнтер Кунерт - Москва – Берлин: история по памяти краткое содержание
Открывают номер фрагменты книги «Осеннее молоко», совершенно неожиданно написанной пожилой немецкой крестьянкой Анной Вимшнайдер (1919–1993): работа до войны, работа во время и на фоне войны, работа после войны. Борьба за выживание — и только. Недаром книга носит название бедняцкой баварской еды. Перевод Елены Леенсон.
Следом — «От Потсдама до Москвы. Вехи моих заблуждений» — фрагменты книги немецкой писательницы и коммунистки, узницы советских и немецких концлагерей Маргарет Бубер-Нойман. Во второй половине 1930-х гг. она со своим гражданским мужем, видным немецким коммунистом и журналистом, живут в Москве среди прочих деятелей Коминтерна. На их глазах крепчает террор и обнажается чудовищная сущность утопии, которую эти революционеры — каждый у себя на родине — изо всех сил идеализировали. Перевод Дарьи Андреевой.
Следующая рубрика — «Мешок на голове» — составлена из очерков, вошедших в книгу «Мои школьные годы в Третьем рейхе. Воспоминания немецких писателей». И открывают эту публикацию «Годы в долг» — мемуарные заметки составителя помянутой книги, ведущего немецкого литературного критика и публициста Марселя Райх-Раницкого (1920–2013). 1930-е годы, Берлин. Нацисты буднично и методично сживают евреев со света. Перевод Ирины Алексеевой.
Герой воспоминаний Георга Хензеля (1923–1996) «Мешок на голове», давших название рубрике, принадлежит не к жертвам, а к большинству: он — рядовой член молодежных нацистских организаций. Но к семнадцати годам, благодаря запрещенным книгам, он окончательно сорвал «мешок» пропаганды с головы. Перевод Ольги Теремковой.
А писатель, журналист и историк Иоахим Фест (1926–2006) назвал свой очерк «Счастливые годы» потому, что такими, по его мнению, их делала «смесь семейного единения и сплоченности, идиллии, лишений и сопротивления…» Перевод Анны Торгашиной.
В воспоминаниях писателя и художника Гюнтера Кунерта (1929) с красноречивым названием «Мучение» передается гнетущая атмосфера страха и неопределенности, отличавшая детство автора, поскольку его мать — еврейка. Перевод Анны Торгашиной.
В «Упущенной возможности» писательница Барбара Кёниг (1925–2011) сожалеет и стыдится, что лишь ценой собственных невзгод дошел до нее, совсем юной девушки, ужас происходящего в Третьем рейхе: «Мне… не остается ничего, кроме жгучего восхищения теми, кто настолько чувствителен, что может опознать несправедливость даже тогда, когда она кажется „долгом“, и мужественен настолько, чтобы реагировать, даже когда напрямую это его не касается». Перевод Марины Ивановой.
Рубрика «Банальность зла». Отрывок из книги «В ГУЛАГе» — немецкого радиожурналиста военного времени Герхарда Никау (1923) о пребывании на Лубянке. Перевод Веры Менис.
Здесь же — главы из книги немецкого писателя и журналиста Алоиза Принца (1958) «Ханна Арендт, или Любовь к Миру» в переводе Ирины Щербаковой. Обстоятельства жизни выдающегося мыслителя, начиная со Второй мировой войны и до убийства Джона Кеннеди. В том числе — подробности работы Х. Арендт над циклом статей для «Нью-Йоркера», посвященных иерусалимскому процессу над Эйхманом, в которых и вводится понятие «банальности зла»: «у него нет глубины, в нем нет ничего демонического. Оно может уничтожить весь мир именно потому, что разрастается по поверхности, как гриб».
В разделе с язвительным названием «Бегство из рая» опубликованы главы из автобиографической книги нынешнего посла Германии в России Рюдигера фон Фрича (1953) «Штемпель в свободный мир» в переводе Михаила Рудницкого. Подлинная история о том, как два студента из ФРГ в 1974 году вывезли кружным путем на Запад по собственноручно изготовленным паспортам трех своих друзей и сверстников из ГДР.
В традиционной рубрике «БиблиофИЛ» — «Информация к размышлению. Non — fiction с Алексеем Михеевым». Речь идет о двух книгах: «О насилии» Ханны Арендт (последняя переводческая работа Григория Дашевского) и «Ханна Арендт, Мартин Хайдеггер. Письма 1925–1975 и другие свидетельства».
И в завершение номера — «Библиография: Немецкая литература на страницах „ИЛ“».
Москва – Берлин: история по памяти - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Во время работы мне приходилось ставить себе табуретку — я была так мала, что не могла заглянуть ни в одну кастрюлю. Чтоб подбавить огня — табуретку отодвигала, чтоб взять что-то из буфета — тащила ее с собой, и сколько же раз мне приходилось перетаскивать ее туда-сюда во время стряпни! <���…>
Главной нашей пищей были молоко, картошка и хлеб. По вечерам я уже не могла как следует готовить — чаще всего в школе мы были с раннего утра и до четырех часов вечера, возвращались только в сумерках. Дома мы варили лишь огромную кастрюлю картошки для себя и свиней. Младшие дети с трудом дожидались, пока она сварится, и часто засыпали на канапе или прямо на жесткой лавке. Приходилось их будить, чтоб поели. Мы были так голодны и съедали столько картошки, что для свиней оставалось слишком мало. Отец нас за это бранил. Ганс как-то съел тринадцать картофелин, и отец сказал: «Ты что, совсем спятил? Жрешь больше свиньи». <���…> Зимними вечерами мы жарко растапливали печку, и в доме становилось тепло. На втором этаже, прямо над печкой, стояла кафельная печь. Если топилась печь внизу, кафельная печка тоже нагревалась. Она имела форму подковы, и мы, дети, по очереди забирались в излучину. А если кто слишком засиживался, остальные его выпихивали — перед сном всем хотелось согреться. Отец клал на большую печь дощечку, а сам садился сверху, частенько после этого тянуло горелым — это были отцовские штаны. Отец любил покурить по вечерам короткую трубку. Над столом висела керосиновая лампа со стеклянным абажуром, и было очень уютно. Мы упрашивали отца рассказать нам зловещие истории о привидениях, убийствах и войне, в которой он участвовал. Дед вспоминал, как он на лошадях перевозил тяжелые, длиннющие бревна из Эггенфельдена в Пассау. Керосин в лампе постепенно выгорал, и чем темней становилось, тем мы делались оживленней. Мы ловили мышей и при этом пихались и толкались, было очень весело. От керосинового чада наши ноздри и подбородки чернели, и мы друг над другом смеялись.
Пока остальные слушали отца, мне полагалось корпеть над швейной машинкой и старательно ставить заплаты. Для этого требовалась маленькая керосиновая лампочка — она стояла в литровой кастрюльке, без нее я б не видела швов. Отец и все дети отправлялись в постель, а мне еще долго нельзя было закончить с шитьем, часов до десяти вечера. То и дело я засыпала от усталости, тогда отец стучал мне сверху и кричал: «Ну, чего там у тебя? Не слышу швейной машинки!» Я просыпалась и работала дальше. <���…>
Пока не выпадал снег, мы ходили в деревянных башмаках, и, если кто-то завязал в грязи, остальные его вытаскивали. При входе в школу стояло множество таких башмаков, часто перепутанных, и, прежде чем каждый находил свою пару, происходила настоящая свалка. На уроках нередко сидели в мокрых чулках. Мы с сестрой вязали перчатки, но их всегда не хватало. Малышам они тоже были нужны, чтоб кататься на санках или лепить снеговика. И каждый день рвались штаны. Поэтому-то отец и заставлял меня штопать и чинить до десяти часов вечера, когда остальные уже лежали в кроватях. Сам он тоже ложился. Если ж мне становилось невмоготу, я шла в кладовку, открывала дверь настежь и вставала за ней. Только там, за распахнутой дверью, я могла спрятаться от всех и хорошенько выплакаться.
Я плакала так горько, что мой передник насквозь промокал. В такие минуты я всегда думала о том, что у нас больше нет матери. И почему умерла именно наша мама, ведь у нее было так много детей? Потом я умывалась, чтоб меня не видели заплаканной. Бывало, кто-то спросит, почему фартуку меня мокрый и мятый, но я так никому и не открылась. Дважды в неделю в школе было рукоделие, в эти дни отец запихивал в мой ранец старые, а иногда и грязные штаны, чтоб я починила их в школе, он считал, что другим рукоделием мне заниматься не обязательно. Я стеснялась вытаскивать это рванье из ранца. Тогда подходила учительница и доставала сама. Дети смеялись, а мне было очень стыдно. У других была с собой вышивка, какие-нибудь красивые яркие вещи. Но учительница одергивала остальных девочек: «Радуйтесь, что у вас есть мать!» Три девочки были на моей стороне, они не смеялись, а жалели меня, потому что дома им все объяснили их мамы. <���…>
На переменах я не могла играть с другими детьми, потому что у меня не было штанов. Я прислонялась к стенке и смотрела. Однажды ко мне подошла дочка учителя, она отвела меня на половину учителя и спросила, не могу ли я на перемене наполнить водой огромный бак в плите. Так я стала каждый день доверху наполнять этот бак, за что жена учителя меня кормила обедом. Как-то раз пришли другие дети и хотели меня прогнать, но она им не позволила. Еще она дарила мне кое-какие платья своей дочери. Тут уж все мне стали завидовать и называть учительской любимицей. Одно платье оказалось коротко, и отец взял и оторвал подпушку, так что все нитки вылезли наружу. Назавтра я как всегда наполняла бак на перемене, как вдруг за моей спиной раздался резкий голос жены пономаря: «Эй, неряха, ты уже достаточно большая, чтобы подшить себе юбку!». Я посмотрела на свой подол и очень смутилась. На следующий день, проходя мимо, жена пономаря в упор посмотрела на мою юбку, но я уже все поправила. Отец говорил, что девочкам перчатки не нужны — по пути в школу мы можем прятать руки в передник. Но поскольку у нас не было ни штанов, ни нижних юбок, ни накидок, а только тоненькие платьица, нам было очень холодно. Мальчики одевались получше: у них были подштанники, а сверху — штаны на подтяжках. Сзади на штанах отстегивалось окошко, чтобы справлять нужду. Еще у них были куртки из толстой материи, шапки и перчатки. Благодаря заплатам их одежда становилась еще теплей. Зимой и в дождливые дни мы ума не могли приложить, где бы нам все высушить, а переодеться было не во что. Новая одежда у нас появлялась редко. На Рождество мать Маередера приносила нам огромную корзину детских вещей и рождественское печенье. Это было важным событием, о котором помнили долго.
С наступлением весны нам становилось полегче. Отец и братья кормили скотину, я же доила коров. Но это было не просто. Я бралась обеими руками и прикладывала все свои силы, чтобы сцедить молоко с одного соска. В школу я уходила последней, потому что сперва нужно было позаботиться обо всех малышах. Из-за этого я регулярно опаздывала. Учитель относился ко мне с пониманием, чего нельзя сказать о священнике. Каждый день он бранил меня за то, что я опоздала к школьной молитве. Мол, могла бы и раньше вставать, ведь твои братья уже в сборе. Я очень расстраивалась, но поделать ничего не могла.
За то, что мы хорошо себя вели, весной каждому из нас разрешили выбрать какое-то животное. Франц и Михль получили маленького барашка — он родился в конце зимы, и пастух отдал его отцу. Этому пастуху и без того приходилось следить за четырьмя сотнями овец, когда он гнал их по нашему полю. Гансу разрешили ухаживать за голубями, которые к нам прилетели. Мы с сестрой — она была двумя годами меня младше — выбрали маленьких утят. Утятам сестры мы обрезали хвостики, чтоб отличать от моих. У каждого теперь была своя живность. Все мы прилежно кормили своих подопечных, чтоб они стали больше и краше, чем у остальных. Еще до того в доме жили кролики, кошки и собака — она была хорошо выдрессирована и к детям никого не подпускала.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: