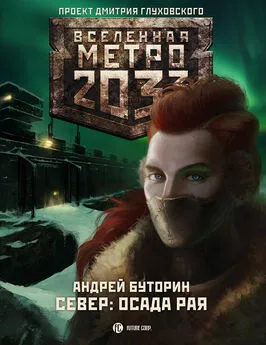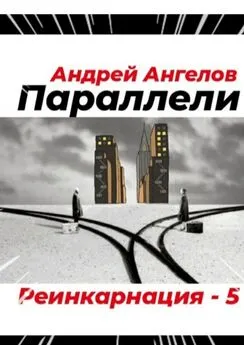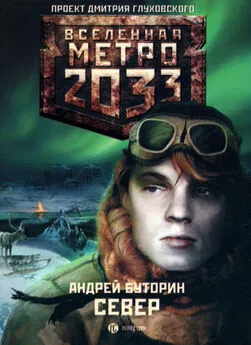Андрей Ланьков - К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР
- Название:К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9299-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ланьков - К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР краткое содержание
Автору неоднократно доводилось бывать в Северной Корее и общаться с людьми из самых разных слоев общества. Это сотрудники госбезопасности и контрабандисты, северокорейские новые богатые и перебежчики, интеллектуалы (которыми быть вроде бы престижно, но все еще опасно) и шоферы (которыми быть и безопасно, и по-прежнему престижно).
Книга рассказывает о технологиях (от экзотических газогенераторных двигателей до северокорейского интернета) и монументах вождям, о домах и поездах, о голоде и деликатесах – о повседневной жизни северокорейцев, их заботах, тревогах и радостях. О том, как КНДР постепенно и неохотно открывается миру.
К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Карточки как норма
На протяжении почти полувека Северная Корея была страной карточной системы. Зерновые пайки были введены в Северной Корее еще в марте 1946 года и первоначально выдавались только государственным служащим. На том этапе речь шла просто о субсидировании работавших на государство: зерновые по карточкам отпускались этим людям по низкой цене, в то время как граждане, на государство не работавшие, должны были приобретать зерно по рыночным ценам. Однако в конце 1950-х годов практически все жители КНДР стали работать на государство, а в декабре 1957 года решением Кабинета министров была запрещена свободная торговля зерновыми (кстати сказать, советское посольство, у которого тогда еще сохранялись некоторые возможности влиять на ситуацию, было обеспокоено этой мерой, и сам посол пытался убедить Ким Ир Сена в ее преждевременности). Собственно говоря, отсюда можно начинать отсчет истории всеохватывающей карточной системы в КНДР.
При этом надо иметь в виду, что в отношении северокорейцев к карточной системе есть одна интересная особенность, россиянам не слишком понятная. В прошлом в Советском Союзе и других странах, которым иногда приходилось вводить карточную систему, использование карточек рассматривалось как временная мера, как признак некой чрезвычайной ситуации. Подразумевалось, что при первой же возможности от карточной системы следует отказаться и вернуться к более традиционным формам снабжения населения через розничную торговлю. В Северной Корее, где всеобъемлющая карточная система просуществовала четыре десятилетия, у большинства населения (за исключением, пожалуй, молодежи) есть совершенно другая установка: считается, что карточная система – это норма, а вот ее отсутствие как раз является признаком глубокого неблагополучия.
Показательна в этом отношении история, которая произошла с моим знакомым южнокорейским социологом в конце 1990-х, когда он опрашивал северокорейских беженцев в приграничных районах Китая. Тогда южнокорейский коллега встретился с северокорейской бабушкой, которая перешла границу всего лишь неделей ранее. Бабушка поведала ему о том, что отныне она знает истинную правду о положении в мире. В том числе, сказала бабушка, ей теперь известно, что США – это очень богатая страна – «настолько богатая, что там даже младенцам дают по 800 г чистого риса (усиленный северокорейский паек. – А. Л .) в день!».
В Северной Корее за последние 20 лет изменилось многое, и подобных бабушек, наверно, не найти сейчас даже в самых глухих деревнях. Тем не менее представление о том, что карточки – это норма, остается, и неслучайно, что неудачная попытка восстановить карточную систему, предпринятая в 2005 году, официально именовалась «мерами по нормализации снабжения населения». Само это словосочетание однозначно указывало на то, что снабжение населения базовыми продуктами питания по карточкам для северокорейцев является нормальным, а отсутствие карточек – признаком чрезвычайной ситуации. Ностальгические воспоминания о временах Ким Ир Сена связаны именно с тем, что в годы правления Великого Вождя все население страны через карточную систему регулярно получало практически бесплатное продовольствие по утвержденным сверху нормам. Неслучайно, что последние 25 лет своей истории северокорейцы называют миконгып сидэ – буквально «эпоха, когда не отоваривают карточки». Именно отсутствие нормально функционирующей карточной системы воспринимается простыми северокорейцами как главная отличительная черта той эпохи, в которой они живут после смерти Великого Вождя Ким Ир Сена.
Строго говоря, во времена Ким Ир Сена в КНДР действовало несколько карточных систем, но главными из них являлись две: общенациональная централизованная система снабжения зерновыми ( пэгып ) и местная система снабжения продовольственными и потребительскими товарами ( конгып ).
Начнем с общенациональной централизованной системы снабжения зерновыми пэгып. Как уже говорилось, частная торговля рисом и любыми иными видами зерновых была окончательно запрещена в декабре 1957 года (до этого запрет на торговлю зерном вводился во время «малого» голода 1954–1955 годов, но потом был отменен). Формально этот запрет действует и сейчас, но на практике с начала 1990-х за его исполнением в целом перестали следить. Во времена Ким Ир Сена, то есть до начала 1990-х, сельскохозяйственные кооперативы сдавали весь урожай зерновых государству, а затем государство распределяло зерно среди населения через централизованную карточную систему. В рамках этой системы государство брало на себя твердое обязательство обеспечивать все население страны зерновыми по установленным сверху и единым для всей территории страны нормам, причем делать это почти бесплатно. Все горожане получали продовольственные карточки, дававшие право на приобретение в распределительном пункте определенного количества зерна.
За зерно нужно было платить, но цена была, по сути, символической. Десятилетиями, вплоть до 2002 года, цена на рис в пайках была зафиксирована на уровне 0,08 вон за 1 кг, а кукуруза и ячмень стоили еще меньше. В это время среднемесячная зарплата выросла примерно с 50 до 100 вон. Даже если предположить, что паек состоял из одного риса (как, скажем, у инструктора ЦК или генерал-майора), то все равно за месячный паек следовало заплатить примерно две воны, то есть 1,5–2 % средней зарплаты. Но цены не имели большого значения: даже если у человека были деньги, он не мог купить больше зерновых, чем было разрешено государством: напомним, что частная продажа зерна была незаконным деянием, и примерно до 1990 года этот запрет реально работал.
В рамках общенациональной системы снабжения зерновыми пэгып каждому северокорейцу полагалось (и до сих пор формально полагается) определенное количество зерновых. Самая большая норма – 900 г в день – назначалась работникам, занятым тяжелым физическим трудом: металлургам, горнякам, лесорубам. Большинство населения имело право на ежедневный рацион в 700 г. Студенты получали 600 г, школьники – 300–500 г в зависимости от возраста, а вот пенсионерам и домохозяйкам приходилось довольствоваться 300 г зерна. Малышам, которым не исполнилось года, полагалось по 100 г, и, естественно, зерно получали не они сами, а их матери. Карточки выдавали по месту работы или учебы. Для предотвращения мошенничества цвет карточек часто менялся. Отоваривали карточки на зерновые не в магазине, а в специализированном распределительном центре, рассчитанном на обслуживание 1000–1500 семей. Обычно пайки там получала вся семья работника предприятия, «прикрепленного» к данному распределительному центру. Карточки на зерновые отоваривали два раза в месяц, причем у каждой семьи был назначен день, когда следовало приходить за рисом, мукой и ячменем. В назначенный день представитель семьи, как правило домохозяйка, поскольку выдача пайков осуществлялась в дневное время, приходил в распределительный центр с удостоверением личности и продовольственными талонами всей семьи. Предъявив талоны, она оплачивала их и забирала рис, которого должно было хватить на следующие полмесяца. Для того чтобы поесть вне дома, например в столовой своего завода, в командировке и даже попав в больницу, северокореец должен был предъявить карточку.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: