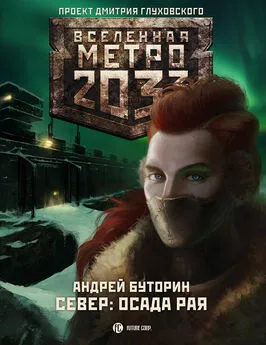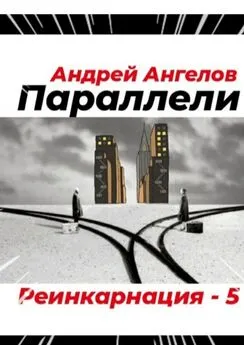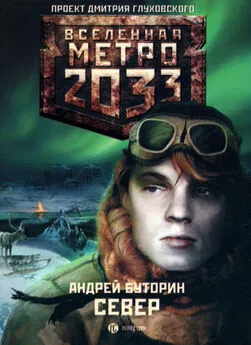Андрей Ланьков - К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР
- Название:К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9299-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ланьков - К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР краткое содержание
Автору неоднократно доводилось бывать в Северной Корее и общаться с людьми из самых разных слоев общества. Это сотрудники госбезопасности и контрабандисты, северокорейские новые богатые и перебежчики, интеллектуалы (которыми быть вроде бы престижно, но все еще опасно) и шоферы (которыми быть и безопасно, и по-прежнему престижно).
Книга рассказывает о технологиях (от экзотических газогенераторных двигателей до северокорейского интернета) и монументах вождям, о домах и поездах, о голоде и деликатесах – о повседневной жизни северокорейцев, их заботах, тревогах и радостях. О том, как КНДР постепенно и неохотно открывается миру.
К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Проблемы для Северной Кореи создаются самим фактом существования Кореи Южной. Когда в 1945–1948 годах страна раскололась на Север и Юг, те территории, которые впоследствии вошли в состав Северной Кореи, являлись относительно развитыми в промышленном отношении регионами. Напротив, Южная Корея представляла собой отсталый аграрный регион с весьма низким уровнем жизни. Спустя 70 лет ситуация изменилась совершенно кардинальным образом. Даже если опираться на официальные северокорейские оценки уровня экономического развития страны, в 2017 году ВВП на душу населения в Северной Корее составлял 1214 долларов. Любопытно отметить, что эта цифра, озвученная представителем Института экономики КНДР, несколько ниже тех оценок северокорейского ВВП, которые официально публиковались ЦРУ. Аналогичный показатель Южной Кореи тогда составлял 30 000 долларов. Это означает, что по душевому показателю ВВП между Северной и Южной Кореей существует примерно 25-кратный (!) разрыв. Это самый большой разрыв по данному показателю на планете Земля между двумя странами, которые имеют общую сухопутную границу.
Однако для Северной Кореи Юг не просто сосед. Южная Корея – это часть той же самой страны, население которой говорит на весьма близком диалекте одно и того же корейского языка и официально считается (и в немалой степени считает себя) частью единой, но временно разделенной корейской нации. Все это создает совершенно уникальную ситуацию, которая, например, существенно отличает Северную Корею от Китая. Китайцев сведения об экономическом процветании США или, скажем, Японии с политической точки зрения раздражают куда слабее, ибо в этом случае речь идет об иностранных государствах. Для жителей Севера распространение информации о южнокорейском процветании может стать настоящим шоком, и результатом этого шока с большой вероятностью будет политическая нестабильность в Северной Корее. Надо иметь в виду, что северокорейское правительство, несмотря на квазирелигиозный культ Семьи Ким и активное использование националистической риторики, в общем обосновывает свою легитимность, то есть право на управление страной, в терминах, традиционных для современных государств.
Северокорейское правительство утверждает, что оно правит страной, поскольку способно сейчас или в обозримом будущем обеспечить населению высокий уровень жизни, который предусматривает и высокий уровень потребления, и большую продолжительность жизни, и, разумеется, наличие сильного государства. В этом заключается принципиальное отличие между Северной Кореей и, скажем, фундаменталистскими государствами – в наше время в основном государствами ислама. Государство, основанное на идеологии религиозного фундаментализма, вовсе не обязано обеспечивать население хорошими больницами и достаточным количеством частных автомобилей, ибо его главная задача – обеспечение идеологической чистоты. С точки зрения фундаменталистов эта чистота куда важнее материальных благ, ибо она гарантирует посмертное райское блаженство и возможность то ли играть на лире перед ликом Господа, то ли наслаждаться объятьями 72 девственниц. Северокорейское правительство ни лир, ни девственниц посмертно не обещает, но при этом с предоставлением населению автомобилей и квартир с горячей водой оно справляется не очень хорошо, особенно по сравнению с правительством соседнего Юга.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что с 1960-х годов руководство Северной Кореи систематически работает над тем, чтобы обеспечивать информационную изоляцию страны. В той или иной степени подобной политикой грешили все социалистические страны, однако в Северной Корее она была доведена до своего логического предела – и, повторяю, дело здесь не в паранойе, а во вполне здравом расчете и хорошем понимании реалий той уникальной социально-политической ситуации, в которой Северная Корея находится. Любопытно, что на первых этапах политика информационной изоляции была направлена не против Южной Кореи, которая в начале 1960-х не отличалась особой привлекательностью для большинства северокорейцев (тогда Южная Корея представляла собой достаточно свирепую и весьма бедную диктатуру). Главная цель северокорейского руководства заключалась в том, чтобы изолировать Северную Корею от Советского Союза и других стран Восточной Европы, так как «социализм по Брежневу» был для северокорейского руководства опасен именно в качестве достаточно привлекательной (на тот момент) альтернативы северокорейской модели. Правда, изучение материалов того времени заставляет подозревать, что тогда кимирсеновская модель, основанная на идеях мобилизации, всеобщего равенства, тотальной карточной системы и радостного коллективного труда во благо нации и вождя, имела все-таки больше поклонников, чем идеалы брежневского СССР, тем не менее советская модель воспринималась тогда как источник потенциальной идеологической опасности.
Однако с середины 1960-х годов из Сеула стали поступать новости, которые не могли не беспокоить северокорейское руководство. В то время как темпы экономического роста в Северной Корее, несмотря на регулярные мобилизационные кампании, медленно, но неуклонно снижались, на Юге началось то, что впоследствии получило название «южнокорейского экономического чуда». Южная Корея к концу 1960-х годов по основным экономическим показателям стала обгонять Север, и этот разрыв на протяжении последующих десятилетий продолжал увеличиваться, причем увеличивался он весьма впечатляющими темпами. В этой обстановке с конца 1960-х годов меры по изоляции страны были значительно усилены. В частности, тогда было запрещено владение радиоприемниками со свободной настройкой. После появления телевидения в приграничных районах телевизоры тоже стали пломбироваться, дабы затруднить их использование для просмотра китайских телепрограмм: последние представляли собой некоторую опасность просто в силу того, что с 1990-х годов китайское телевидение в приграничных районах стало активно ретранслировать южнокорейские программы.
Находящиеся в Северной Корее иностранцы тоже столкнулись с самыми разнообразными ограничениями. Во-первых, количество иностранцев резко сократилось. С конца 1960-х Северная Корея значительно снизила масштабы обмена студентами со странами Восточной Европы и СССР: фактически на протяжении почти 20 лет учиться за границу ездили только крайне немногочисленные выходцы из высшей элиты. Соответственно, сократилось и количество иностранных студентов, находившихся на территории страны. Иностранные гражданки, которые состояли в браке с гражданами КНДР, столкнулись с очень серьезным давлением и в итоге в своем подавляющем большинстве были выдавлены из страны. Любое общение с иностранцами стало подозрительным, и в 1970-е годы нормальной стала ситуация, когда пхеньянец в самом буквальном смысле слова убегал от иностранца, попытавшегося задать ему какой-то вопрос на корейском языке. Осторожность эта могла выглядеть комичной, но была совсем не лишней, ибо любое общение с иностранцем вызывало к человеку повышенный интерес со стороны спецслужб. Разумеется, это не означало, что человека, поговорившего с советским дипломатом о погоде, отправляли в тюрьму или высылали из Пхеньяна, но это гарантированно означало, что ему придется провести некоторое время в общении с бойцами невидимого фронта – перспектива, которая ни у кого не вызывала восторга. Фактически в контакт с иностранцами до начала 1990-х годов могли вступать лишь немногочисленные и тщательно проверенные люди, которые имели на то разрешение.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: