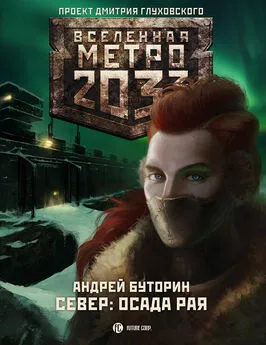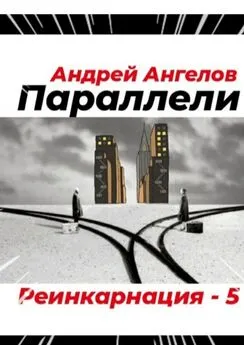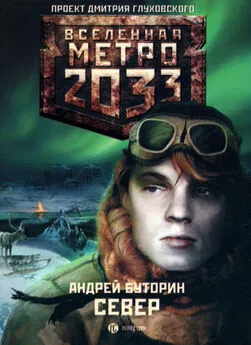Андрей Ланьков - К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР
- Название:К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-0013-9299-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Ланьков - К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР краткое содержание
Автору неоднократно доводилось бывать в Северной Корее и общаться с людьми из самых разных слоев общества. Это сотрудники госбезопасности и контрабандисты, северокорейские новые богатые и перебежчики, интеллектуалы (которыми быть вроде бы престижно, но все еще опасно) и шоферы (которыми быть и безопасно, и по-прежнему престижно).
Книга рассказывает о технологиях (от экзотических газогенераторных двигателей до северокорейского интернета) и монументах вождям, о домах и поездах, о голоде и деликатесах – о повседневной жизни северокорейцев, их заботах, тревогах и радостях. О том, как КНДР постепенно и неохотно открывается миру.
К северу от 38-й параллели. Как живут в КНДР - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Теоретически в ТПК может вступить каждый гражданин КНДР, достигший возраста 18 лет. Кандидат должен представить рекомендательные письма от двух членов партии, которые потом будут нести личную ответственность за его поведение. Затем кандидатура будущего партийца обсуждается в ячейке ТПК, к которой он будет относиться. После официального утверждения кандидат в члены партии проходит испытательный срок, а затем получает членский билет, который необходимо беречь как зеницу ока. Иначе говоря, система приема в партию почти полностью совпадает с той, что была в КПСС в советские времена. На практике же основную роль играют квоты на прием в партию, которые распределяются сверху. Секретарь местной партячейки подбирает кандидатов для заполнения квоты. Во внимание принимаются происхождение и родственные связи человека – тот самый сонбун . Квоты на прием в партию особенно велики в армии, поэтому многие северокорейцы пытаются вступить в ТПК в период армейской службы, чтобы обеспечить себе дополнительные карьерные перспективы после демобилизации. Именно поэтому до конца 1990-х армейская служба, несмотря на ее продолжительность и связанные с ней тяготы, была так популярна в КНДР. На заводах, и особенно в государственных учреждениях, квоты гораздо жестче, так что люди ради вступления в ТПК дают взятки.
Власти рассчитывают, что членов ТПК легче контролировать, да и вообще предполагается, что члены партии более благонадежны. Действительно, они должны участвовать в собраниях гораздо чаще, чем беспартийные коллеги, с которыми они работают бок о бок. Требования по соблюдению предписанных норм поведения к членам партии тоже обычно жестче, чем к беспартийным: члена ТПК могут наказать за проступки, которые для беспартийных вполне допустимы. Многих читателей старшего поколения не удивит, что для членов ТПК существует своя система взысканий «по партийной линии». Они могут получить выговор или строгий выговор, а самым суровым наказанием считается исключение из ТПК. На практике в наши дни исключение из партии – событие редкое и обычно входит в «дисциплинарный пакет» в качестве дополнения к аресту и судебному приговору. Уголовный срок за политическое или уголовное преступление всегда означает исключение из партии.
Можно ли считать 4 млн членов Трудовой партии преданными сторонниками режима, как часто утверждают и друзья, и враги Пхеньяна? Я не уверен. Некоторые из них действительно искренне преданы Ким Чен Ыну, а для других важнее всего преданность стране, которая для них далеко не всегда тождественна Семье Ким. Однако для большинства членство в партии имеет лишь прагматическую ценность, так что вряд ли наличие в кармане партийного билета отражает реальные взгляды человека. Рожденные в СССР отлично знают, как это все работает.
Женское дело
Беженка из Северной Кореи, типичная плотно сбитая корейская тетушка с характерным «перманентом» на голове, с улыбкой отвечала на мой вопрос о роли мужчины в северокорейских семьях: «Ну, знаете, где-то в 1997–1998 годах мужчины стали бесполезными. Они ходили на работу, но делать там было нечего, так что они просто возвращались домой с пустыми карманами. А вот женщины мотались по самым захолустным уголкам, приторговывали чем могли – и зарабатывали деньги для семьи».
Действительно, с середины 1990-х годов в Северной Корее стала быстро возрождаться рыночная экономика, то есть, проще говоря, капитализм. Однако новый северокорейский капитализм с самого начала демонстрировал одну любопытную особенность: у него было женское лицо. Среди лидеров растущей рыночной экономики женщин изначально было гораздо больше, чем мужчин, – по крайней мере, так обстояли дела на низовом уровне, среди рыночных торговцев и мелких предпринимателей. Именно женщины доминировали в этом мире переполненных рынков, забитых тюками поездов и газогенераторных грузовиков, маленьких мастерских и крохотных торговых точек. Это обстоятельство частично отражает модель роста нового капитализма в КНДР. В отличие от бывшего СССР или Китая, «постсоциалистический капитализм» в Северной Корее не пытались насаждать сверху. Скорее, это был капитализм низовой, который возник в основном стихийно, вопреки желаниям правительства, и большую часть времени рос и развивался невзирая на периодические попытки правительства остановить этот процесс и повернуть время вспять (до прихода к власти Ким Чен Ына, который показал себя покровителем этого стихийного перехода к рынку).
После распада СССР Северная Корея внезапно лишилась иностранной помощи, и экономика страны стала разваливаться. Значительная часть промышленности оказалась парализована, так что общий объем промышленного производства за 1990–1999 годы сократился примерно в два раза. Однако мужчины и женщины отреагировали на новую ситуацию совершенно по-разному. Мужчины в своем большинстве по-прежнему появлялись на своих рабочих местах – отчасти из чувства долга, а главным образом из-за того, что они, да и члены их семей, считали, что формальную свою работу надо сохранять до тех пор, пока не кончится кризис и все не вернется на круги своя. Кроме того, в соответствии с корейским законодательством любой трудоспособный мужчина обязан иметь официальную работу: нарушителей этого правила могут в административном порядке задержать как «тунеядцев» и отправить на несколько месяцев в таллёндэ , местную тюрьму с мягким по северокорейским меркам режимом.
Позиция властей в годы кризиса была недвусмысленной: считалось, что всему персоналу необходимо регулярно появляться на рабочих местах, даже если никакого производства на данном предприятии не ведется уже несколько лет. Работникам говорили, что, регулярно появляясь на своих рабочих местах, они таким образом «охраняют социализм, охраняют оборудование». На практике, персонал часто отправляли на различные общественные работы, заставляли убирать территорию или сидеть на политзанятиях. В любом случае в 1990-е годы ожидалось, что мужчины будут ходить на официальную работу, даже если им на этой работе фактически ничего не платят.
Женщины пользовались куда большей свободой. Главное их преимущество заключалось в том, что даже в кимирсеновские времена женщина, выйдя замуж, могла не ходить на работу, официально зарегистрировавшись в качестве домохозяйки. В отличие от многих других социалистических стран, в Северной Корее с 1960-х годов во многом была свернута кампания по вовлечению женщин в общественное производство. Иначе говоря, там стали официально считать, что в положении домохозяйки нет ничего постыдного или отсталого. Более того, хотя теоретически вступление в формальный брак (неформальных «отношений» в КНДР, впрочем, до «Трудного похода» не бывало вообще) и было условием регистрации, на практике женщина в возрасте 23–25 лет иногда могла заявить, что она, дескать, «скоро собирается замуж» – и стать домохозяйкой, скажем так, до положенного срока. Таким образом, когда около 1990 года начался экономический кризис, именно женщины первыми занялись всевозможными видами рыночной деятельности, так как в их распоряжении был важнейший ресурс – время. В результате мужчины по-прежнему с утра отправлялись на свои остановившиеся заводы, а женщины начинали искать средства к существованию и, как правило, находить их в рыночной экономике.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: