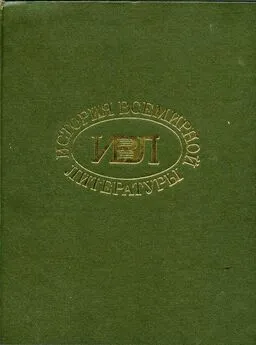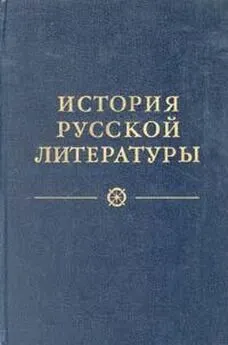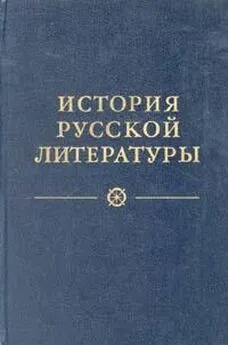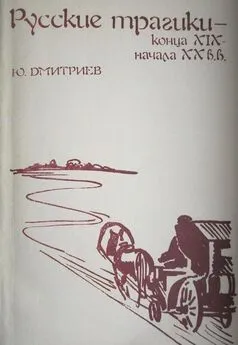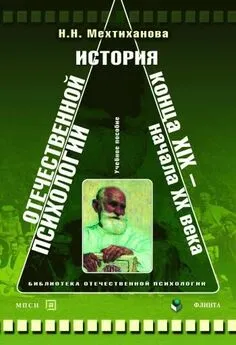Юрий Виппер - Том 8. Литература конца XIX — начала XX вв.
- Название:Том 8. Литература конца XIX — начала XX вв.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:1994
- Город:Москва
- ISBN:-02-011423-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Юрий Виппер - Том 8. Литература конца XIX — начала XX вв. краткое содержание
Том VIII охватывает развитие мировой литературы от 1890-х и до 1917 г., т. е. в эпоху становления империализма и в канун пролетарской революции.
Том 8. Литература конца XIX — начала XX вв. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Среди разнонаправленных духовных исканий времени русские символисты обеих групп оказались на линии «борьбы за идеализм», усилившейся в конце века в противовес распространению материализма. Они разделяли идеи Вл. Соловьева о том, что капиталистический строй дробит личность, сеет «атомизм в жизни, атомизм в науке, атомизм в культуре» и что материализм есть порождение буржуазного сознания. Символистов привлекала та критика материалистической философии и эстетики, в частности идей русских революционных демократов, которую развернул в 90‑е годы А. Волынский в журнале «Северный вестник». Аналогичный смысл имела война с поздним передвижничеством в первом журнале русских модернистов «Мир искусства» (1899–1904), организованном С. Дягилевым и А. Бенуа. Несмотря на некоторые мировоззренческие и творческие разногласия с организаторами этих журналов, символисты в них печатались. Так, в «Мире искусства» появилось обширное исследование Мережковского «Л. Толстой и Достоевский», невзирая на то что окрасившая этот ценный труд проповедь обновления православия была чужда лидерам журнала, художникам. Волынский публиковал в «Северном вестнике» произведения Метерлинка, Гамсуна, даже д’Аннунцио, а также Сологуба, З. Гиппиус, Бальмонта, хотя и не принимал художественных новаций модернистов, а в декадентском мироощущении усматривал симптом «лихорадочного расстройства» духа.
В лекции 1892 г. Мережковский связывал развитие русской литературы с грядущим национально — религиозным подъемом: «Высшая степень культуры есть вместе с тем высшая степень народности», но дума о духовном хлебе неотделима от «великой думы о боге». «Мистическое содержание» Мережковский находил не только у Л. Толстого и Достоевского, но и у Некрасова, Г. Успенского, Короленко. (Произвольная интерпретация явлений культуры ради их «присвоения» сохранится в работах Мережковского и в других выступлениях символистской критики). Путь к осознанию высших мистических ценностей видел в новом искусстве и Минский. В предисловии 1894 г. к переводу «Слепых» Метерлинка Минский противопоставлял эмпирической картине реальности — символическую, ведущую к глубинам философского и религиозного постижения мира.
Брюсов имел основания в своих заметках 1895 г. трактовать воззрения Волынского, Мережковского, Минского в духе Ф. Брюнетьера, видевшего во французском символизме идеологизированное искусство метафизического содержания. Но в лекции Мережковского «О причинах упадка…» ощущалась и другая цель (энергично высказанная тогда и Брюсовым): призвать к обновлению словесного творчества. Представители обеих символистских групп оказались в русле насущных эстетических запросов: с 80‑х годов перед русскими писателями и критикой все чаще вставала задача художественного перевооружения.
Не только «декадент» Треплев из чеховской «Чайки» полагал, что искусству «нужны новые формы». Сам Чехов сетовал на исчерпанность ресурсов современной прозы и открывал новые возможности реалистического изображения, вводя в него «подводное течение», подтекст, пользуясь импрессионистской палитрой. Л. Толстой, считавший, что в литературном развитии пора «перевернуть страницу», шел на рубеже веков к новым средствам словесной выразительности. Приверженец синтеза реалистического и романтического начал Короленко считал, что сферой художника должна быть и «возможная реальность». Искания Гаршина, оцененные критикой как романтические, объяснялись, по его словам, разладом с традиционным «реализмом, натурализмом, протоколизмом». Интерес автора «Красного цветка» привлекали приемы экспрессивности, активизирующие восприятие, метаязык аллегории, притчи, параболы. За рамки традиционного реализма выходило творчество позднего Тургенева. Примечательна «Песнь торжествующей любви» (1881). В духе романтизма здесь слиты «тайны» искусства, любви, смерти. Рассказ окутан дымкой загадочного, мистического; в судьбы героев вторгаются оккультные силы, магия Востока, колдовские чары музыки. Мотивы злой страсти, любви — ненависти, экзотически пряная атмосфера тургеневского «жестокого» рассказа подводили к грани искусства «конца века». Новые стилевые устремления обозначились и в поэзии 80‑х годов: дисгармонически — гротескная образность Случевского, импрессивная психологическая лирика Фофанова.
Выдвигая наряду с «мистическим содержанием» также «символ» и «расширение художественной впечатлительности» (импрессионизм), Мережковский ссылался на символизм в античной скульптуре, у Гёте, Ибсена, на импрессионизм, присущий Верлену, позднему Тургеневу, Чехову, Фофанову. Но представление о символе было нечетким: Мережковский то сводил его к аллегории, то приравнивал к типизации; соответственно символистами оказывались Гаршин и даже Гончаров. Сам Мережковский, при всей приверженности к «новому искусству», оставался в собственном творчестве на старых стилевых рубежах. Мировосприятие человека fin de siècle с его переживаниями одиночества, исчерпанности, жажды конца передавалось в стихотворениях Мережковского 80–90‑х годов («Усни», «В сумерки», «Темный ангел», «Пустая чаша», поэма «Смерть» и др.) средствами традиционной элегической поэзии, лирическими декларациями, иногда в виде «пейзажа души» («В лесу», «Март», «Зимний вечер»). Обращаясь к иносказательным формам, Мережковский предпочитал традиционную аллегорию на темы истории, мифологии («Сакья — Муни», «Пантеон», «Парки», «Марк Аврелий», «Колизей»). Лирика Мережковского по — своему выразила время, запечатлев настроения интеллигента переходной эпохи; его герои — «Слишком ранние предтечи // Слишком медленной весны» («Дети ночи», 1894). В стихотворении «Morituri» (1891) обреченное поколение, славящее потомков, уподоблено римскому гладиатору, который, умирая, салютует Цезарю. Социально — психологический смысл этого иносказания предвосхитил раздумья Блока и Брюсова в канун 1905 г. Но выдвинувший множество проблем и мотивов, подхваченных затем другими символистами, Мережковский не сказал нового слова в области формы. Из трех требований, предъявлявшихся им к новому искусству, сам он следовал ревностнее всего принципу «мистического содержания». В известном равнодушии к формальным новшествам у Мережковского сказывалась инерция поздненароднической поэзии, в кругу которой он начинал. Большее значение и резонанс имела историческая проза Мережковского.
Как произведение символистского эпоса была задумана Мережковским его романная трилогия «Христос и Антихрист» (часть 1 — «Отверженный» «(Юлиан — отступник»), 1895; часть 2 — «Воскресшие боги» («Леонардо да Винчи»), 1900; часть 3 — «Петр и Алексей», 1904–1905). Обращаясь к эпохам исторических сдвигов (от античности к христианству, от средневековья к Возрождению, от допетровской Руси ко времени Петра I), Мережковский хотел показать процесс мирового развития как противоборство полярных начал — «земного», материального и «небесного», духовного, — утверждая необходимость их синтеза. Трилогия иллюстрировала религиозную концепцию автора: исходное единство мира и бога в язычестве, сменившееся христианством с его дуализмом плоти и духа, должно быть восстановлено в религии «третьего завета», интегрирующей правду язычества и христианскую истину. Искание «синтеза» (преемственно связанного с идеалом «всеединства» Вл. Соловьева) во многом объяснялось расколотостью внутреннего мира Мережковского, человека «конца века», тщетно жаждавшего цельности. Квазидиалектика космоса — хаоса, света — мрака, добра — зла, бога — человека, «бездны верхней» и «бездны нижней» сообщала произведениям Мережковского черты схематизма, «ядовитой симметрии» (Блок). Вместе с тем беллетристическое мастерство автора трилогии принесло ей вопреки религиозной догматике успех у русского и зарубежного читателя. Во всеоружии исторических данных писатель воссоздавал обстановку ушедших времен. Правда, бытовой материал нередко оказывался избыточным, а массовые сцены (вакхическое шествие при Юлиане, сожжение книг сторонниками Савонаролы, придворный бал у Петра и др.) грешили «оперностью», как это было в помпезных исторических полотнах тогдашних живописцев — академистов (Г. Семирадский и др.).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: