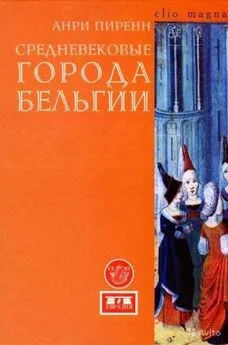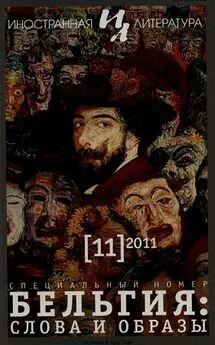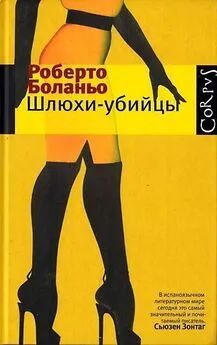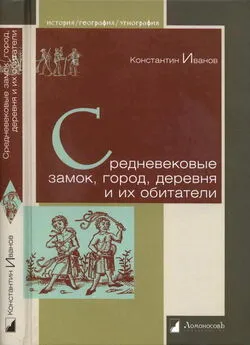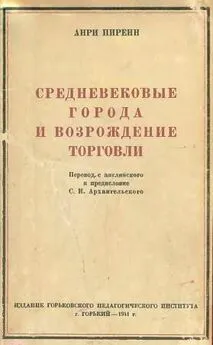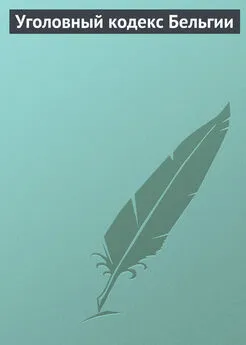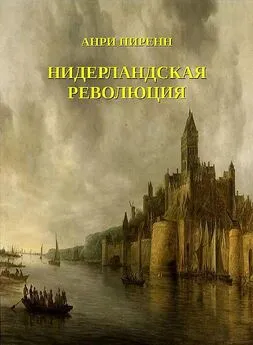Анри Пиренн - Средневековые города Бельгии
- Название:Средневековые города Бельгии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8071-0093-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Пиренн - Средневековые города Бельгии краткое содержание
Средневековые города Бельгии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Наряду с этой группой, которую можно считать группой «старых патрициев», существовала еще купеческая гильдия, приобретавшая все более аристократический характер. Удалив в конце концов из своей среды ремесленников и начав допускать в качестве членов только торговцев шерстью и сукном, она заключала в себе наиболее энергичные и активные элементы высшего бюргерства. Впрочем, между viri hereditarii и купцами гильдии ( comanen ) всегда поддерживались тесные взаимоотношения. В каждой родовитой семье имелись представители обеих категорий. Первая непрерывно пополнялась за счет второй, а эта — в свою очередь, была открыта для сыновей « lediggangers », желавших заниматься торговлей. Многие граждане были одновременно купцами и родовитыми бюргерами ( marcans et bourgeois heritables ) [705]. Словом, хотя отдельные патриции и занимались различными делами, тем не менее в целом все они составляли особый класс, с ясными отличительными признаками. На них смотрели, как на бюргерство в собственном смысле слова ( poorterij ), хронисты называли их то majores , то ditiores , то boni homines (могущественными, богатыми или славными людьми).
Контраст между этим плутократическим классом и остальной частью городского населения резко бросался в глаза.
По своим обычаям, одежде, часто даже по языку, на котором они говорили, патриции обособились от «простонародья», от «ремесленников» ( communitas, gemeen ). Безвозвратно прошло то время, когда в первых городских поселениях купцы и ремесленники были слиты между собой под названием mercatores . Разница в богатстве положила между ними непроходимую грань и сделала невозможным какое бы то ни было общение. Во всех проявлениях социальной жизни патриции надменно афишировали свое превосходство. Они присваивали себе звания here, sire, damoiseau ; их увенчанный зубцами каменные дома ( steenen ) высились со своими башенками над убогими соломенными крышами рабочих жилищ [706]; в городских войсках они составляли конницу; в доме гильдии, ghiselhuis , тщательно различали и обращались совершенно по-разному с ремесленником и буржуа, привыкшим пить вино за своим столом [707].
Эта кастовая надменность, так открыто проявлявшаяся патрициатом, имела свои основания. Действительно, начиная с середины XII в. до конца XIII в., крупное бюргерство представляло поразительное зрелище. Своим умом, энергией и трудолюбием, своими деловыми способностями, своей преданностью общественному делу, оно невольно напоминает, несмотря на разницу во времени и обстановке, парламентскую аристократию, управлявшую Англией в VII и XVIII вв. Правда, ее дело оставалось анонимным, и лишь случайно до нас дошли имена некоторых « poorters » (горожан), причастных к тогдашней политической жизни: таким был, например, Симон Сафир из Гента, к которому неоднократно обращался английский король Иоанн, как к посреднику в Нидерландах. Но если роль отдельных лиц нам неизвестна, то о роли всего коллектива можно судить по ее результатам. Во время правления патрициата окончательно сформировались города, были возведены их стены, построены их рынки, приходские церкви, дозорные башни, вымощены городские улицы, упорядочены водопроводы, проведены каналы. При этом же строе в городах была введена та финансовая, военная и административная система, которую они с тех пор сохранили без существенных изменений до конца Средних веков. Правление патрициев дало городам народные школы [708], освободило города от юрисдикции церковных судов, уничтожило феодальные повинности, тяготевшие еще на городских землях или городских жителях, и сделало, наконец, все выводы из вписанных в грамоты привилегий.
Патриции не только в качестве городских правителей придали городам тот блеск, которого они достигли в конце XIII в. Они, кроме того, щедро жертвовали свои состояния на городские дела. Так, камбрэский хронист восхвалял только что упомянутого нами Веримбольда за то, что он выкупил за свой счет обременительный налог, взимавшийся у одной из — городских застав [709]. Но горячий местный патриотизм, одушевлявший высший слой городского населения, проявился в особенности в строительстве городских больниц. С конца XII века создававшиеся ими благотворительные учреждения множились с поразительной быстротой [710]. И подобно тому, как хоры церкви св. Иоанна в Генте, Ипрские и Брюггские торговые ряды, канал от Гента до Дамма и трубы Зилебеке и Дикебусхе, питавшие ипрский водопровод, — еще и в настоящее время напоминают о величии и плодотворности патрицианского правления, точно так же благотворительные учреждения современной Бельгии обязаны в значительной мере своими богатствами пожертвованиям этих « erwachtige lieden » (родовитых бюргеров) и этих « comanen » (членов гильдий), щедро жертвовавших для облегчения участи бедных часть барышей, которые они получали со всех концов Западной Европы от продажи фландрских сукон.
Но те же причины, которые породили могущество патрицианского строя, привели также и к его гибели. Имея все достоинства классового управления, он под старость приобрел все недостатки его. Привилегии патрициата и занимавшееся им повсюду исключительное положение первоначально признавались всеми. Было естественно, что самым богатым купцам досталась городская власть. В этих населенных пунктах, живших торговлей и промышленностью, олигархия богатства стала неизбежной с самого же начала, подобно тому как в свое время неизбежен был феодальный строй, соответствовавший потребностям эпохи, когда главной экономической силой была крупная земельная собственность. Но в то время как в XII веке княжеские бальи и чиновники постепенно заменили феодалов, положение которых не отвечало больше новому порядку вещей в стране, патрициат не желал отказаться ни от одной из своих прерогатив. С течением времени его власть становилась все более стеснительной и обременительной; он упорно не допускал «простой народ» к каким бы то ни было должностям и отказывал ему в каком бы то ни было контроле.
Недостатки системы, передававшей политическую власть над массой ремесленников в руки тех самых людей, на которых работали эти ремесленники, не замедлили сказаться со всей силой. Рабочий класс, в котором в XII веке происходило брожение под влиянием еретических учений, в XIII веке охвачен был бурными социальными требованиями. Священники и нищенствующие монахи, отдавшиеся делу проповеди Евангелия среди бедняков, и пробудившие у них чувство человеческого достоинства, часто, сами того не желая, сеяли среди них своей проповедью христианского смирения презрение и ненависть к богачам. Так, например, в Антверпене Вильгельм Корнеций заявлял, что богач, даже добродетельный, хуже проститутки [711]. Какое же негодование должна была вызывать среди усвоивших подобные взгляды людей безнаказанность, которой пользовался, например, согласно гентской « Keure » тот, кто похищал «дочь бедняка», чтобы сделать из нее свою любовницу? [712]
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: