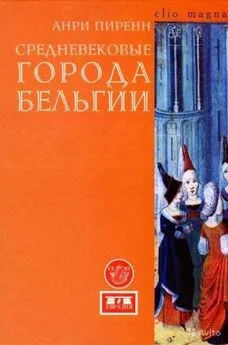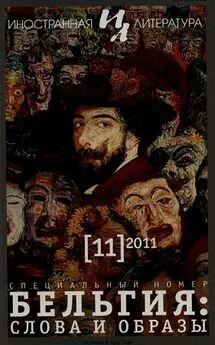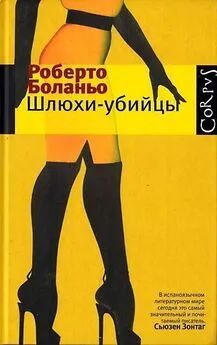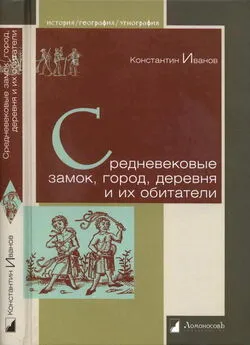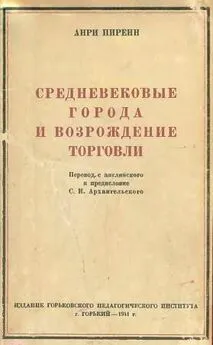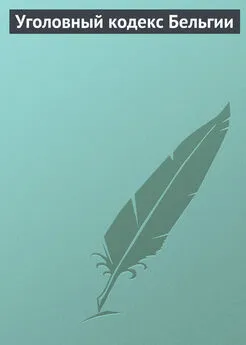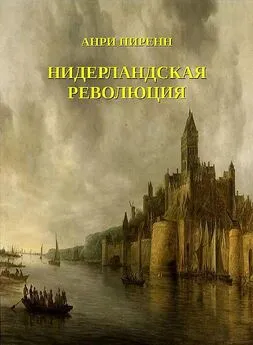Анри Пиренн - Средневековые города Бельгии
- Название:Средневековые города Бельгии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Евразия
- Год:2001
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:5-8071-0093-
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анри Пиренн - Средневековые города Бельгии краткое содержание
Средневековые города Бельгии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В промышленных городах недовольство усиливалось и питалось главным образом волнующим вопросом о заработной плате. Правда, некоторые слишком вопиющие злоупотребления были уничтожены, по крайней мере номинально; так, например, Truck-system (оплата труда товаром) была запрещена [713]. Но тем не менее тарифы заработной платы устанавливались исключительно эшевенами, избиравшимися из среды патрициата, т. е. из среды тех же предпринимателей. Кроме того, эти самые предприниматели, злоупотребляя своим положением, эксплуатировали работавших на них ремесленников, либо не выплачивая следуемой им платы, либо обманывая их насчет количества сырья, которое они им давали [714]. Если прибавить к этому запрещение рабочим ручного труда вступать в гильдии и продавать сукно, предоставление надзора за цехами, обрабатывавшими шерсть, исключительно только купцам, тайну, в которой городские советы держали свои совещания, то легко понять, почему во всех торговых городах между Маасом и морем образовались две классовые партии: партия бедняков и партия богачей. С одной стороны — патриции ( majores, goeden, bons ); с другой — ремесленники ( minores, kwadien, mauvais ). Это — буквальное повторение того противоречия, которое наблюдалось в это же время в Италии между « popolo minuto » («тощий народ») и « popolo grasso » («жирный народ»).
Борьба была тем более неизбежна, что ремесленники противостояли купцам, будучи объединенными между собой. Правда, независимые цехи со своей корпоративной юрисдикцией и с правом назначать своих старшин и своих присяжных появились лишь в следующем веке. Но уже с XII века внутри рабочего класса образовались религиозные братства [715], а в течение XIII века сами городские власти для лучшего контроля над трудом разбили представителей различных профессий на особые группы ( officia, ministeria, metiers, ambachten, neeringen ). Как сурово ни контролировали они ремесленников, как ни запрещали им собираться без разрешения, как ни требовали, чтобы во главе их стояли гильдейские купцы [716], — они не могли помешать росту в рабочем классе чувства товарищества и солидарности, усугублявшегося сознанием общности его интересов и подготовлявшего его к борьбе против патрициата.
Было бы ошибкой думать, будто уже в XII веке в городах имелись какие-нибудь следы народного движения [717]. Отмечаемые в эту эпоху источниками частые бунты были направлены против духовенства и феодалов, в них принимало участие все население, без различия классов, и их целью было окончательное устранение последних помех, мешавших развитию городских конституций. Впрочем, до 1200 г. социальная дифференциация была еще слабо выражена. Вспомним, что слово « mercatores » относилось тогда как к купцам, в собственном смысле слова, так и к ремесленникам. Но иначе обстояло дело в следующем веке. Теперь брожение внутри «простонародья» распространилось на всю территорию Нидерландов. В Льеже в 1253 г. Генрих Динанский поднял бедноту против эшевенов и против епископа [718]. В Динане в 1255 г. ковачи меди пытались путем насильственной революции свергнуть экономическое господство эксплуатировавшего их патрициата [719]. В Гюи в 1299 г. ткачи вели борьбу с « conservatores drapparie », т. е. с купцами гильдии [720]. Аналогичную картину представлял Брабант. Валяльщики Лео составили в 1248 г. заговор против городских властей; в 1267 г. Лувен сделался ареной восстания ремесленников [721]. Но особенной силы достигли волнения во Фландрии и в соседних областях. В 1225 г. беспорядки, которыми было отмечено появление лже-Балдуина, носили явно демократический характер [722]. Беднота (« vilains » и « menues gens ») с восторгом приветствовала появление мнимого императора. Она ожидала от него конца своих бедствий и приветствовала его, как социального реформатора.
Povre gent, telier et foulon
Estoient si privet coulon;
Et li mellour et li plus gros
En orent partot mauvais los.
Et dissoient la povre gent
Qu'il en orent or et argent.
. . . . . . . . . . .
Et empereour l'apieloient.
(«Бедные люди, ткачи и валяльщики, стали его доверенными слугами, а богачей и «лучших» людей постигла всюду злая участь. И бедные люди говорили, что благодаря ему они получили золото и серебро… и называли его императором».)
Так, простодушная лояльность народа сочеталась у него со смутными стремлениями к идеалу справедливости и с корыстными вожделениями, обеспечив таким образом успех обманщику, который в течение некоторого времени имел на своей стороне весь городской плебс. Графиня Иоанна, напуганная неожиданным взрывом восстания, бежала и скрылась в Турнэ, откуда стала умолять французского короля о помощи. В Валансьене разразилась настоящая революция. Патрицианские присяжные были смущены, ремесленники провозгласили коммуну, захватили не успевших бежать богачей [723], и для усмирения города пришлось прибегнуть к осаде его. Вчитываясь в прозаическое изложение Филиппа Мускэ, нетрудно убедиться, что лже-Балдуин играл в течение некоторого времени ту же роль, какую играл три века спустя Иоанн Лейденский, и валансьенские мятежники напоминают искренностью своих иллюзий, упорством своих надежд и жестокостью своего поведения мюнстерских анабаптистов.
События 1225 г. произвели слишком глубокое впечатление на сознание народа, чтобы следы их могли изгладиться совершенно. С этого времени Фландрия продолжала оставаться ареной социального движения, серьезность которого все усиливалась по мере приближения к XIV веку. Прежде всего оно проявилось в городах валлонской Фландрии. В Дуэ в 1245 г. оно было отмечено народными восстаниями, которые назывались « takehans » [724], и в которых нетрудно распознать все признаки стачек. Отсюда движение не замедлило переброситься на север графства. В 1274 г. гентские ткачи и валяльщики, доведенные до отчаяния своим положением, организовывали заговоры против эшевенов или бежали в Брабант [725].
О размерах опасности можно судить по средствам, употребленным для борьбы с нею. Ткачам и валяльщикам было запрещено носить оружие, или даже просто показываться на улицах со своими инструментами, собираться в числе более семи, объединяться для каких-нибудь иных целей, кроме интересов цеха. На них посыпались самые суровые наказания: изгнание, смертная казнь [726]. Между городами были заключены соглашения на предмет выдачи ремесленников, которые, организовав заговор в одном из городов, укрылись бы затем в другом [727]. Ганза семнадцати городов — это образовавшееся в начале XIII века могучее объединение мануфактурных центров [728]— не имела, по-видимому, никаких других целей, кроме общей защиты от мятежных или подозрительных ремесленников. Эти мероприятия только усилили социальную вражду и ненависть.
Между тем патрицианский режим, по мере того как он старел, все ухудшался и оказывался все менее способным к сопротивлению. Первоначально плутократический, он теперь превратился в какую-то эгоистическую и своекорыстную олигархию. Купеческие гильдии и эшевенства все более становились монополией нескольких привилегированных семейств. Патрициат закрыл доступ в свою среду для новых людей. Он обнаруживал тот дух замкнутого протекционизма, который можно было наблюдать впоследствии у цехов в период их упадка в конце Средних веков. В Брюгге патриции протестовали против привилегий, предоставленных графом иностранным купцам, а своими придирками вызвали временно в 1280 г. эмиграцию в Арденбург « oosterlngen » (немцев и испанцев) [729]. В Генте положение было еще хуже. Члены коллегии XXXIX сумели превратить звание эшевена в какой-то наследственный феод, так что среди эшевенов можно было найти стариков, больных и прокаженных, абсолютно не способных выполнять свои обязанности [730]. Со всех сторон раздавались жалобы на пристрастие и грубость городских советов [731]. Патрициат раскололся [732]. Многие из «знатных людей» и купцов разделяли с простым народом чувство отвращения к клике, захватившей власть и пользовавшейся ею лишь в своекорыстных интересах. Как это постоянно бывает с одряхлевшим и разложившимся строем, эшевены, перед лицом надвигавшейся на них грозы, обнаружили невероятное ослепление. В Генте члены совета XXXIX оставляли безнаказанными такие факты, как похищение их племянниками дочерей крупных бюргеров, а их лакеями — дочерей «мелких людей». В Ипре, в Дуэ новые постановления еще ухудшили и без того тяжелое положение рабочих суконной промышленности. В Брюгге акциз был сильно увеличен, и повсюду он давал повод к самым вопиющим злоупотреблениям, так как эшевены перекладывали его с себя на бедняков [733]. Городские финансы повсеместно были в самом хаотическом состоянии. Для погашения дефицита у ломбардских банкиров занимали деньги под большие проценты. С другой стороны — нежелание эшевенов отчитываться в делах давало повод к обвинениям их в хищениях. Их упрекали в растрате городских средств на празднества; возмущались тем, что многие из них брали на откуп взимание налогов.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: