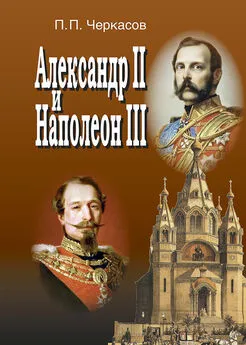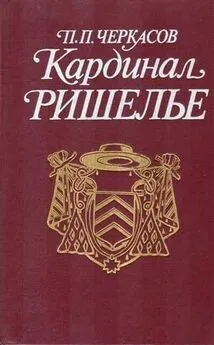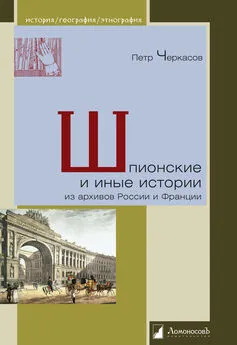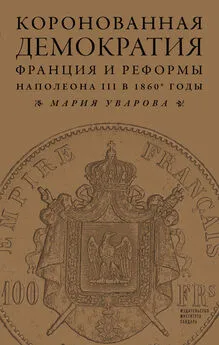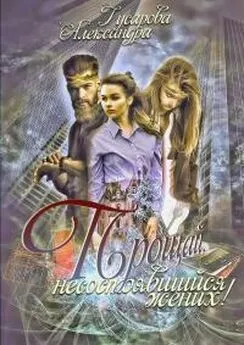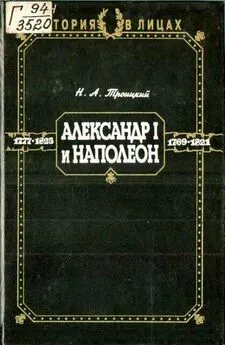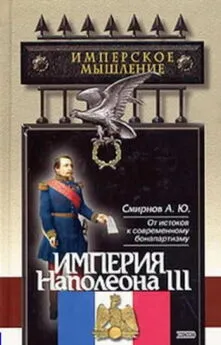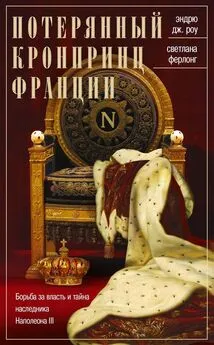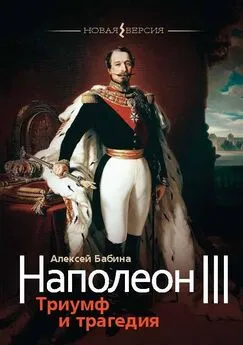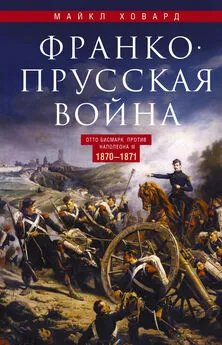Петр Черкасов - Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз (1856–1870).
- Название:Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз (1856–1870).
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Товарищество научных изданий КМК
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9907157-8-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Петр Черкасов - Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз (1856–1870). краткое содержание
Что лежало в основе сближения двух недавних противников, кто и по каким причинам – Александр или Наполеон – инициировал этот процесс, как развивались отношения между Россией и Второй империей после окончания Крымской войны, были ли реальные шансы на заключение союза двух стран, наконец, почему такой союз не состоялся?
Эти и другие вопросы, входившие в повестку дня российско-французских отношений в период между Крымской и Франко-прусской (1870–1871 гг.) войнами, рассматриваются в книге, написанной по материалам дипломатических архивов Москвы и Парижа (около 200 архивных дел).
Перед читателем предстает богатая портретная галерея монархов, лиц из их ближайшего окружения, министров и дипломатов разных уровней, причастных к развитию российско-французских отношений. Это – Александр II и Наполеон III, императрицы Мария Александровна и Евгения, великий князь Константин Николаевич и принц Наполеон-Жером, князь Горчаков и граф де Мории, граф Валевский и граф Орлов, граф Киселев и герцог де Монтебелло, барон Будберг и барон де Талейран-Перигор, граф Стакельберг и генерал Флери…
Для историков и всех, кто интересуется отечественной и европейской историей.
Александр II и Наполеон III. Несостоявшийся союз (1856–1870). - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Все эти суды признавались независимыми от административных органов. Были введены должности военных прокуроров и следователей. Официально отменялись сословные привилегии подсудимых, которым предоставлялось право обжалования приговоров. Тогда же, в 1867 г., была создана Военно-юридическая академия для подготовки кадров военных юристов. Безусловно, военно-судебная реформа 1867 г. имела следствием значительный прогресс в обеспечении законности и судопроизводства в армии и на флоте.
Именно так оценивали ее наблюдатели из посольства Франции в Петербурге. «Новый Военно-судебный устав имеет целью устранить недостатки старой системы, основы которой были заложены Петром I в его Уставе от 30 марта 1716 года», – писал в Париж барон Талейран в августе 1867 г. Прежний петровский устав, по мнению французского посла, безнадежно устарел и давно уже не отвечал современным требованиям. «Правительство давно сознавало недостатки старой военно-судебной системы, и еще в 1837 году пыталось как-то ее изменить, но разработка подлинной реформы началась только с 1856 года…», – заметил Талейран.
Хотя еще трудно в полной мере оценить то, как будет работать новый Военно-судебный устав, тем не менее, совершенно очевидно, – подчеркнул французский дипломат, – что его принятие, уже само по себе, означает «серьезное улучшение состояния военной юстиции в России;…это достойный шаг на том пути реформ и прогресса, по которому идет русское правительство» [847].
Французские наблюдатели интересовались и другими направлениями реформаторской деятельности в Александровское царствование, но в служебной переписке посольства Франции информации по ним значительно меньше.
Как показывает изучение сообщений, докладов и памятных записок, направлявшихся в Париж посольством Франции в Санкт-Петербурге, французские дипломаты в целом были достаточно хорошо информированы о подготовке и проведении реформ 1860-х годов. Внимательно следя за ними, они однозначно положительно восприняли все реформаторские начинания Александра II, видя в них искреннее желание царя, модернизировать свою страну и сократить вопиющий разрыв между Россией и остальной Европой. По убеждению французских дипломатов, это стремление у царя-реформатора, возникло в результате трезвого осмысления им итогов и уроков Крымской войны, обнаружившей катастрофическое отставание России от передовых стран Европы.
Первое время французские наблюдатели, как и просвещенная часть русского общества, находились в состоянии эйфории под впечатлением от Манифеста 19 февраля. Однако вскоре, под влиянием многочисленных выступлений обманувшихся в своих ожиданиях (т. е. передачи им помещичьих земель) крестьян, первоначальный восторг сменился у французских дипломатов серьезными сомнениями относительно того, что Россия благополучно выйдет из крестьянской реформы. Им даже стало казаться, что Российской империи грозят гибельные социальные потрясения. Успешное в целом завершение в феврале 1863 г. двухлетнего переходного периода в реализации крестьянской реформы вновь придало оценкам французов утраченный, было, оптимизм.
Опасения возродились в середине 60-х годов. На этот раз они были связаны уже не с крестьянскими волнениями, а с активизацией правой и левой оппозиции в так называемом образованном обществе. Наряду с прежней, придворно-аристократической фрондой курсу на продолжение реформ, появляется оппозиция в обществе, представленная «московскими патриотами-националистами», группировавшимися вокруг издателя «Московских Ведомостей» Михаила Каткова.
Французское посольство сообщало в своих донесениях в Париж о «моральной диктатуре, существующей сегодня в Москве и подчиняющей своему влиянию даже правительство» 1. Недвусмысленно осуждая правительство за излишний либерализм и поспешность в проведении реформ на западный манер, Катков и его единомышленники обосновывали идею самобытности и самодостаточности России. Их взгляды посол Франции барон Талейран характеризовал, как «узколобый патриотизм» [848]. К началу 70-х годов «патриоты» по существу сомкнулись с аристократической оппозицией, настаивавшей на свертывании реформ.
Выдвинутый «патриотами» тезис о принадлежности России к некой иной, отличной от европейской, цивилизации, вызывал искреннее недоумение у французских дипломатов. «…Афишируемая в настоящее время московской партией претензия найти в самой себе черты иной цивилизации и навязать ее другим… противоречит повседневной практике…», – отмечал в своем докладе в МИД Франции 1-й секретарь французского посольства маркиз де Габриак. Россия, желающая стать современным государством, по убеждению дипломата, просто обречена на то, чтобы заимствовать передовой западный опыт, «идет ли речь об изменении судебных институтов, постройке железных дорог или реформе армии» [849]. В этом смысле французский дипломат предвосхитил появление получившей впоследствии широкое распространение в либеральных кругах концепции т. н. «догоняющего развития» России.
В поиске доказательств европейского призвания России, Габриак зашел столь далеко, что попытался обосновать положение об отсутствии у русских вообще какой-либо цивилизационной самобытности и тем более самостоятельности. «Русский человек, – отмечал французский дипломат, – великолепный подражатель, но он лишен созидательного начала. Он несет в себе пороки прежних цивилизаций, но при этом в нем не найти присущих им достоинств. О нем говорят, что он похож на плод, который сгнил раньше, чем созрел. Это – жесткое определение, но, возможно, оно и справедливо. Покладистый, смышленый, умеющий принимать любые формы, надевать на себя любые маски, русский все время разный и почти никогда не бывает самим собой. За границей он не такой, как у себя в стране. Если же он приобретает западный лоск, то становится подлинной личностью.
Петр Великий и Екатерина II понимали свою страну, распространяя на нее западное влияние. Они чувствовали, что сама Россия не способна выносить в своих недрах идею, которая была бы ее собственной, и лишь путем подражания она может приблизиться и даже сравняться со своими учителями. Эти два великих ума отдавали себе отчет в том, что…, поскольку цивилизация едина, а ее движущие силы идентичны, то и средства ее развития могут быть только подобными» [850].
Данную точку зрения, по убеждению Габриака, разделял и Александр II, стремившийся, по примеру Петра и Екатерины, окончательно ввести свою страну в русло европейского развития.
Не менее серьезной, наряду с правой оппозицией, а в перспективе даже наиболее опасной, французские дипломаты считали возникшую в ходе реформ леворадикальную оппозицию, в которую активно вовлекалась молодежь, прежде всего студенческая. Она несла в себе угрозу революционного взрыва, что показали студенческие волнения, неоднократно возникавшие после 1861 г., а также покушение бывшего студента Дмитрия Каракозова на жизнь Александра II 4 апреля 1866 г.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: