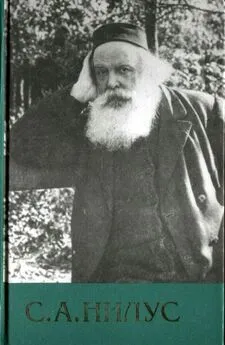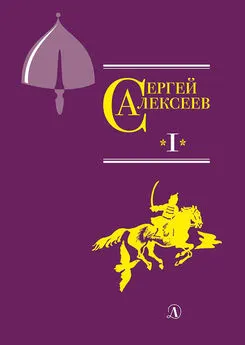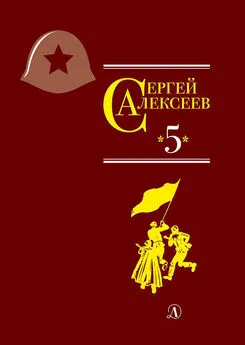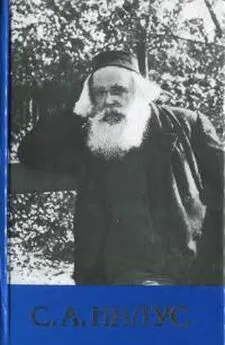Сергей Нилус - Собрание сочинений - Том 6
- Название:Собрание сочинений - Том 6
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Общество Святителя Василия Великого
- Год:2005
- Город:Москва
- ISBN:5-88060-039-4
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Нилус - Собрание сочинений - Том 6 краткое содержание
Полное собрание творений Сергия Нилуса - 2005 в форматах DjVu, PDF и FB2 на облаке
и
Собрание сочинений - Том 6 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Иеромонах Лаврентий, подобно своему учителю, был также праведным и прозорливым. Когда он еще был в средних годах, с ним произошло следующее: в монастыре умерли нетрезвые монахи. Отец Лаврентий безмерно скорбел об их погибели и умолял Господа дать ему понести за их грех какое-либо страдание, дабы облегчить их загробную участь. И действительно, вслед за этим его постигла мучительная болезнь: воспаление лицевого нерва и когда периодически болезнь эта обострялась, то страдания его доходили до крайнего мученичества.
„Самая страшная зубная боль, — говорил он, — ничто в сравнении с этой болью“. Однажды, находясь в состоянии почти невменяемом, он стоял на обрыве над озером, помышляя о самоубийстве. Рядом появился человек и стал решительно поддерживать его в этом намерении. Отец Лаврентий уже решившийся было броситься в воду, осенил себя предварительно широким крестом — и в это мгновение успел заметить, что стоявший рядом человек внезапно стал невидим. Потрясенный отец Лаврентий сразу опомнился и с той поры понес безропотно свои нестерпимые муки. Умершие монахи не раз являлись ему в сновидениях и изъявляли ему свою благодарность.
Внешний облик о. Лаврентия был необычайно светлый: внутренний свет его души как бы просвечивался сквозь оболочку его старческого тела. На контрастном сумрачном фоне каменной кельи этот сияющий, любвеобильный образ выделялся еще более разительно. Жил о. Лаврентий в монастырской стене постройки XVII века, где помещались монашеские кельи. Он редко выходил, а, может быть, и совсем уже не выходил.
Отец архимандрит Иосиф почитал его, как старца и ничего не предпринимал без его благословения. Монахи и мирские обращались к нему за руководством.
Однажды к нему пришел монастырский фельдшер отец X., который был чем-то обижен и собирался переменить обитель. Отец Лаврентий сказал ему коротенькую басню: „Жила, жила сорока на острове, пока не опоганила всё кругом. — Давай, говорит, полечу искать чистое место“. Басня не прошла даром, фельдшер не покинул Иверского.
Мне же, совсем не зная обстоятельств моей жизни, отец Лаврентий велел прочитать житие преп. Серапиона Египетского, говоря, что я там найду для себя некое указание. И в самом деле, прочтя это житие, я поняла духовный смысл переживаемых мною трудностей, и это сознание укрепляло меня в течение долгих лет.
Отец Лаврентий горячо любил Россию: когда началась война 1914 года, он пламенно молился о победе русского оружия, все время интересуясь ходом событий. Но за полгода до своей кончины отец Лаврентий видел сон: будто читает он священную, написанную огненными буквами книгу о конечной судьбе земного мipa, читает, ужасается и просыпается в величайшем страхе, запомнив лишь заключительные слова: „Но Господь не даст усилиться пагубе и ускорит кончину“.
После этого сна о. Лаврентий оставил все помышления о земном, всецело отдавшись безмолвию. Скончался, насколько я запомнила, в конце 1915 года. Перед кончиной он удостоился зреть наяву Божию Матерь, явившуюся ему в видении со Святителем Николаем.
Еще много и долго могла бы я рассказывать и о некоторых старосветских валдайских жителях, и о братиях святой обители, ее настоятеле о. архимандрите Иосифе, отличавшемся простотой и скромностью, и, главное, теплой любовью ко всем незадачливым и несчастным. Отец наместник вспоминается мне с метлой в руке, метущий двор в часы общего послеобеденного отдыха. Отец Геннадий, ризничий, опытный духовник, строгий монах и многие другие. Вижу и сейчас детское сияющее лицо юродивого Абрамыча, косматого и лохматого. Более добродушной физиономии вообразить себе невозможно! Меня предупредили, что он неопустительно должен поцеловать каждого, в ком видит доброе христианское расположение. Как я ни крутилась и ни увиливала, но не миновала его приветствия. Все же, кончая, хочется мне еще упомянуть об отце Вениамине, молодом монахе, несшем послушание „гробового“, то есть он был приставлен к мощам праведного Иакова и к чудотворной иконе. Он и его приятель о. Никита, просфоряк и рыболов; оба были корелами. Корелы сохранили свой особый язык и примитивную наивность. Отец Вениамин передавал нам речь крестьянок-корелок, молящихся перед Иверской иконой, их поистине ребяческий лепет. Таким же оставался в душе и сам о. Вениамин; он производил впечатление необычайной чистоты. Ему явился во сне св. Иаков, жалуясь, что ему неудобно лежать. О. Вениамин тайно осмотрел святые мощи, нашел торчащий гвоздь под головой праведного отрока и увидел необходимость переменить пыльную вату, которая служила изголовьем. Вату купили мои родственники, гвоздь был удален, больше никто об этом не узнал.
Мощи переоблачались через известные периоды лет. Однажды мой дядя при этом присутствовал. Он рассказывал, что св. Иаков был отроком лет 12-ти с курчавенькой головкой. Мощи приплыли к городу Боровичам в XV столетии на огромном бревне. Оно частью сохранилось, я его видела в соборе и удивлялась его толщине.
Кроме Иверского монастыря, была я, но уже во второй мой весенний приезд, и в женском — Короцком, находившемся вблизи того села, откуда родом был святитель Тихон Задонский. Он, как валдайский уроженец, должен был носить в сердце своем всю святыню и красоту этой дивной местности… Мы служили панихиду на могиле его родителей. Тут же близко стояла крошечная, бревенчатая церковка, где отец его служил причетником. Войти туда ввиду ее ветхости не дозволялось. Но двери были отперты, и можно было видеть посреди церкви аналой, а на нем поминание семьи Святителя.
В третий раз мне уже не пришлось быть в Валдае. Скоро подоспела революция, и до меня доходили только отрывочные известия о происходившем там: архимандрит Иосиф был сильно ранен камнями во время крестного хода и положен в больницу. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Благочестивые купцы были расстреляны, возник ужасающий голод, люди умирали…»
Еще раз скажем: жизнь Нилусов в Валдае была полна общением с единомысленными верующими людьми, приезжавшими лично, писавшими интересные письма. Монастырь с его святынями и духовно настроенными иноками, хотя и не мог заменить дорогую им Оптину Пустынь, все же являлся великой духовной отрадой. Дивная природа и все вместе взятое делало их жизнь красочной и богатой. Но вот кончилась «жизнь», произошла революция, и началось «житие»…
По Промыслу Божию, в первые же дни революции Нилусов посетил князь Владимир Давидович Жевахов, будущий епископ Иоасаф, который пригласил их переехать к нему в его полтавскую усадьбу Линовицу, Пирятинского уезда. Там в конце парка стоял неизвестно зачем им выстроенный небольшой двухэтажный дом… К счастью, Нилусы сразу приняли это предложение. Они немедленно перебрались на Украину. Если бы они этого не сделали, они бы не уцелели. В Новгородской губернии вскоре начался голод и страшнейший террор. Все местные друзья Нилусов погибли. В Полтавской же губернии еще долгое время не было нарушено мирное положение: народ продолжал жить в довольстве, «дядьки» гостеприимно приглашали Нилусов отведать вареников из белой муки со сметаной, приговаривая: «Гуляйте, гуляйте». Конечно, вскоре после прихода советской власти всего этого не стало.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: