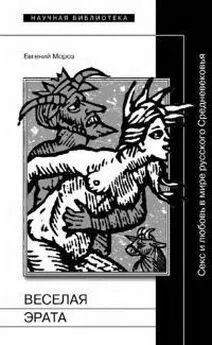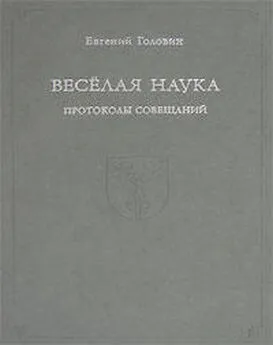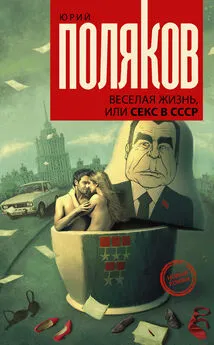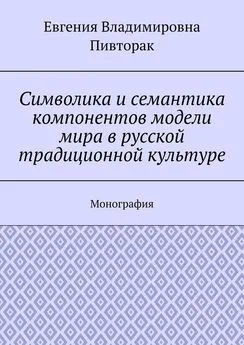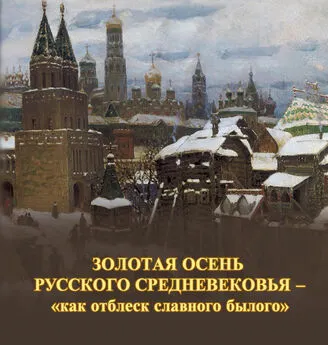Евгений Мороз - Веселая Эрата. Секс и любовь в мире русского Средневековья
- Название:Веселая Эрата. Секс и любовь в мире русского Средневековья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-86793-887-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Мороз - Веселая Эрата. Секс и любовь в мире русского Средневековья краткое содержание
Веселая Эрата. Секс и любовь в мире русского Средневековья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
* * *
Типические черты и оригинальные особенности любовных традиций разных народов поднимают множество вопросов, не имеющих, однако, какого-либо отношения к русской культуре. В этом случае перед нами стоит совсем другая проблема. Проблема в том, что любовной литературы русского Средневековья не существовало. Перенимая византийское наследие, русская культура решительно проигнорировала все, что относилось к любовной теме. В русской традиции не запечатлелись образы легендарных возлюбленных, подобных Леандру и Геро, Ромео и Джульетте, Тристану и Изольде, Меджнуну и Лейле, Юсуфу и Зулейке, дальневосточным Пастуху и Ткачихе... В литературе средневековой Руси изображались привязанные друг к другу добродетельные супруги, но авторы, которые их описывали, избегали даже малейшего намека на чувственную сторону брака. Идеал семейной жизни был асексуален: «Честен брак и ложе нескверно» . [501] Хронограф 1512 г. // Полное собрание русских летописей. СПб., 1911. Т. 22. Ч. 1. С. 270.
Так, о рязанских князьях рассказывали, что они «в браке целомудренно жили, помышляя о своем спасении... Плоти своей не угождали, соблюдая тело свое после брака непричастным греху» . [502] Цит. по: Снесаревский П.В. Представления о любви в памятниках письменности Руси XIV—XV вв. // Пушкарева 1999. С. 526.
«Сказание о блаженной великой княгине Евдокии» восхваляет героиню (жену Дмитрия Донского) за то, что она « трудолюбезно пребываше, воздержанием же плоть свою изнуряа, целомудрие же съхраняа и чистоту душевную вкупе же и телесную» . [503] Там же.
О том же сообщается и в «Слове о житии и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Русского», согласно которому князь и княгиня жили во взаимной любви, но « плотоугодия» не творили [504] Слове о житьи и о преставлении великого князя Дмитрия Ивановича, царя Рускаго // Словарь книжников 1989. С. 403.
, что, впрочем, не мешало автору «Слова...» рассказать позднее о детях, родившихся в этом будто бы монашески целомудренном браке.
Подобные идеалы определили и значение самого слова «любовь», которое в средневековой русской культуре использовалось чаще всего для того, чтобы обозначить отношение к Богу. Когда это слово характеризовало отношения людей, оно употреблялось без эротического контекста и звучало синонимично таким понятиям, как « привязанность, благосклонность, мир, согласие, причем, как правило или очень часто, — между родственниками » [505] Гладкова О.В. «Возлюби бо разум еа и благочестие». Образ идеальной любви в древнерусской литературе // Пушкарева 1999. С. 500.
. Для того чтобы охарактеризовать отношения любовников, использовались выражения нарочито пренебрежительного характера — « любосластие», «любоплотствование », «плотногодие », « разжение плоти» и т.п. [506] Пушкарева Н.Л. «Како се разгоре сердце мое и тело мое до тебе...»: любовь в частной жизни человека средневековой Руси по ненормативным источникам // Пушкарева 1999. С. 511.
Упоминания о таких позорных страстях можно увидеть главным образом в нравоучительных сочинениях, осуждающих женскую развращенность и коварство. Уже в написанном в XIII столетия «Молении» Даниила Заточника провозглашалось, что «злая жена» — это « гостинница неуповаема, кощунница бесовская. [...] Мирский мятежь, ослепление уму, началница всякой злобе, въ церкви бесовская мытница, поборница греху, засада от спасениа» [507] Моление Даниила Заточника // Дмитриев, Лихачев 1978. С. 396.
. Данному представлению суждено было господствовать в древнерусской литературе. Того же мнения придерживались авторы таких сочинений, как сборники «Великое Зерцало» и «Римские деяния», «Повесть о семи мудрецах», «Повесть об Акире Премудром»... Спустя почти полтысячелетия после Даниила Заточника создатель «Повести о Савве Грудцине» (XVII век) в полной мере разделял подобные женоненавистнические воззрения и возмущался тем, что «блудно вѣетъ бо женское естество уловлять умы младыхъ отроков к блудодѣянию» [508] Дмитриев, Лихачев 1988. Кн. 1. С. 40.
. И если исламские литераторы, желавшие воспеть прекрасную любовь, домысливали ради этого содержание библейских сказаний (история Юсуфа и Зулейки), то авторы русских нравоучительных сочинений домысливали Библию с прямо противоположной целью. Ими двигало желание найти еще одну коварную обольстительницу, которую можно было бы осудить за ее нечестие. В своем послании князю Дмитрию Борисовичу Яков (Иаков) Черноризец (конец XIII столетия) в одном ряду с дочерьми Лота, опоившими своего отца и вступившими с ним в связь, упоминает Сусанну, которую пытались соблазнить, а потом оклеветать похотливые старцы. Логика проста — в конце концов старцы были разоблачены и казнены, стало быть, виновницей их гибели является красавица, которая соблазнила старцев своей прелестью. [509] Послание Якова Черноризца князю Дмитрию Борисовичу // Дмитриев, Лихачев 1981. С. 458.
Три века спустя сходным образом рассуждал и автор «Беседы отца с сыном о женской злобе». Указав на то, что со времен Евы главным источником греха и преступлений в мире была женщина, он упоминает в числе преступных грешниц Вирсавию, объявляя ее виновницей гибели мужа Урии [510] Титова Л.В. Беседа отца с сыном о женской злобе. Исследования и публикация текстов. Новосибирск, 1987. С. 211.
, хотя в Библии вина за смерть Урии возлагается на увлекшегося Вирсавией царя Давида. При подобных воззрениях неудивительно, что на Руси даже библейский Змей-искуситель изображался в образе женщины [511] Пушкарева И.С. Сексуальная этика в частной жизни древних русов и московитов (X—XVII вв.) // Топорков 1996. С. 67.
.
Первое оригинальное русское сочинение, в основу которого легла история отношений мужчины и женщины, — «Повесть о Петре и Февронии» [512] Повесть о Петре и Февронии / подгот. текстов и исслед. Р.П. Дмитриевой. Л., 1979.
, написанная в середине XVI столетии — т.е. во времена Ивана Грозного. Его автор Ермолай-Еразм использовал фольклорные предания о канонизированных собором 1547 года муромских святых и создал труд, не имеющий аналогов в более ранней русской литературной традиции. Очевидно, именно это обстоятельство вызвало неодобрение со стороны митрополита Макария, который, как полагают, инициировал труд Ермолая-Еразма, однако не включил «Повесть о Петре и Февронии» в составленный им сборник «Великие Минеи Четии» [513] Дмитриева Р.П. Ермолай-Еразм (Ермолай Прегрешный) // Словарь книжников 1988. С. 221.
. Митрополита, вероятно, шокировало то обстоятельство, что в описание жития святых проникли явные сказочные мотивы — рассказ о змее-оборотне, о чудесном мече и пр., а также указание на «низкое» происхождение Февронии (ее отец и брат занимаются бортничеством), из-за которого ее брак с князем вызывает противодействие со стороны муромских бояр и вельмож. Однако характеристика чувственного желания в истории Петра и Февронии не отличается от нравоучительных христианских сочинений, — оно изображается как безусловная непристойность или даже как порыв, причастный демоническому началу. Данное представление запечатлено уже началом «Повести...», в которой рассказывается о коварном змее, который соблазнил жену брата Петра, приняв облик ее мужа: «Искони же ненавидяи добра роду человечю, дьявол вели неприязненаго летящего змия к жене того на блуд» [514] Там же. С. 211.
.
Интервал:
Закладка: