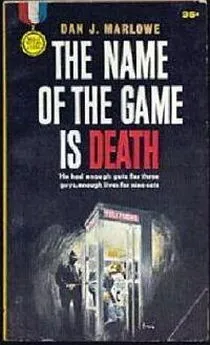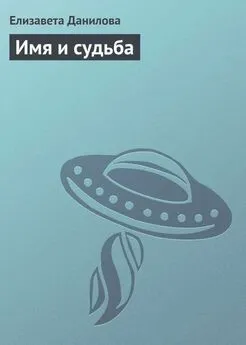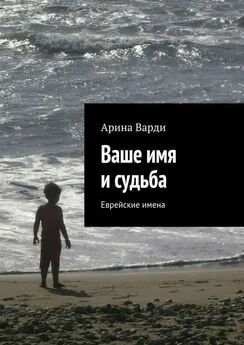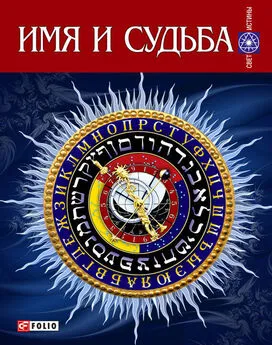Александр Филюшкин - «От ордена осталось только имя...». Судьба и смерть немецких рыцарей в Прибалтике
- Название:«От ордена осталось только имя...». Судьба и смерть немецких рыцарей в Прибалтике
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Наука
- Год:2018
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-02-039680-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Филюшкин - «От ордена осталось только имя...». Судьба и смерть немецких рыцарей в Прибалтике краткое содержание
«От ордена осталось только имя...». Судьба и смерть немецких рыцарей в Прибалтике - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Поводом к войне, по мнению ряда историков, выступала нужда России в «цивилизаторе», которую она готова удовлетворить даже военным путем. Ливония блокировала контакты русских с европейцами, поэтому ее якобы и надо было уничтожить. Наиболее оригинальна здесь точка зрения С. Ф. Платонова, который писал, что особую роль в притоке с Запада на Русь культурных людей сыграла Ливонская война, а именно — массовые переселения пленных немцев в глубь России. [260] Платонов С. Ф. Москва и Запад в XVI–XVII веках. Л., 1925. С. 20–21.
Таким образом, Ивану Грозному приписывается весьма оригинальный подход: я тебя завоевал, пленил, поработил и сослал в земли незнаемые, а ты меня теперь цивилизуй! Впрочем, эта концепция была поддержана и западными историками, в частности, В. Урбаном, который вообще считал захват ливонского населения одной из главных целей Ивана IV в войну: царь хотел таким образом заполучить для России как можно больше специалистов-цивилизаторов. [261] Urban W. The Livonian Crusade. Washington, 1981. P. 473.
Происхождение данной концепции связано с популярной идеей об убежденности в готовности и, главное, желании России приобщиться к духовным и культурным ценностям Запада. Но в России эта идея появляется в XVIII–XIX вв. и расцветает в конце XX в. Нет ни малейших оснований приписывать ее Ивану Грозному и тем более считать причиной вторжения в Ливонию.
Кроме вышеназванных причин, некоторые историки выводят русское вторжение в Ливонию из сущности «Московии» как «государства-агрессора». Иными словами, Россия напала, потому что не могла не напасть, в этом будто бы ее характер и главная черта — порабощать безвинные соседние государства. Например, екатеринбургский исследователь А. А. Шапран считает, что захватом Ливонии Иван Грозный удовлетворял свою «страсть к завоеваниям». Этим он «полностью игнорировал» интересы своих людей, которые были принесены в жертву неверно понимаемым интересам государства. Войну он трактует как «главную политическую ошибку московского правительства», а Ливонская война объясняется как «одна из величайших военных авантюр мировой истории, которая полностью провалилась». [262] Шапран А. А. Ливонская война 1558–1583. Екатеринбург, 2009. С. 95, 114, 116–117, 122, 515, 524.
Все подобные построения имеют два принципиальных недостатка. Во-первых, историки смотрят на прошлое, не пытаясь понять его. Они судят историю своей страны с высот своего времени, применяя к нему современные идеологемы и штампы политической пропаганды. Это может производить впечатление на читателей, но науки здесь нет. Во-вторых, ни в одном русском источнике XVI в. таких целей войны не сформулировано. Историки здесь додумывают за Ивана Грозного и его соратников. Так или иначе, мы должны идти от источников, и если предлагать гипотезы о скрытых причинах войны за Ливонию — то они тоже должны опираться на источники, а не на абстрактные логические или идеологические построения.
Пока у нас нет оснований не доверять мотивации нападения на Ливонию, изложенной в русских источниках. Война начиналась как карательная акция против «неисправившихся» ливонцев, а после взятия Нарвы превратилась в банальную для XVI в. войну за добычу и трофеи. Русские явно надеялись и на экономическую выгоду от взятия под свой контроль ливонской торговли, но здесь интерес был не стратегический («прорываемся к морю и становимся морской торговой державой»), а утилитарный, прагматичный («ливонцы хорошо наживаются на торговле, и мы тоже хотим это делать»). Применительно к событиям 1558–1561 гг. нет никаких оснований видеть здесь более глубокую и тем более геополитическую подоплеку.
В первой половине XVI в. Немецкий орден в Ливонии столкнулся не только с внешними, но и с внутренними вызовами. Ключевую роль сыграли сословия Ливонии, интересы которых оказались слишком разнополярны. Бюргерство в городах (Ревель, Дерпт, Рига) имело крупный вес во многом в силу экономический роли в регионе, а в случае с Ригой также политической, ввиду членства города с 40-х гг. в Шмалькальденском союзе. Рыцарство сумело сохранить ведущие позиции в провинции и остаться опорой ордена в военно-политическом аспекте. Важную роль здесь играли родственные связи светского дворянства с орденской братией, формировавшие настоящий олигархический союз элиты в Ливонии. Отсутствие у духовно-рыцарской корпорации привычной династической стратегии компенсировалось созданием многочисленной клиентелы из числа светских родственников, испомещенных во владениях ордена.
Кризис середины XVI в. был во многом предопределен комплексом внешних проблем. Огромную роль здесь играло влияние соседней Пруссии и вмешательство во внутриливонские дела со стороны Альбрехта Бранденбург-Ансбахского. Результатом стало разрушение хрупкого внутреннего компромисса сословий, что привело к Эзельской распре, «войне коадъюторов» и в конечном итоге открыло путь Ливонской войне. Успешную стратегию сохранения духовно-рыцарского сообщества как самостоятельной силы в условиях перемен выработать так и не удалось, хотя шансы для этого были. Секуляризация орденских владений прошла по прусскому, уже знакомому и отработанному варианту. Ливонский магистр принял протестантизм и стал светским правителем. Однако в Ливонии не удалось создать подобие прусской модели при сохранении ведущей роли за бывшим орденским лидером: герцогство Курляндское и Семигальское последнего ландмайстера Готтхарда Кетлера не могло равняться по своему влиянию прусскому герцогству Гогенцоллернов.
Судьба Ливонии в гораздо большей степени была связана с происходящим в европейских дворах, городах и соборах, чем с Москвой. История Ливонии — это прежде всего история германского мира, история балтийского мира, история западного христианства и феномена духовно-рыцарских орденов, и в конечном счете — история Реформации и ее результатов. Русские земли, Новгород и Псков, и затем Россия, несомненно, сыграли в ней свою роль, но это была роль только одного из многих других факторов ливонской истории.
Россия была в Прибалтике только одним из многих политических игроков, которые в XVI в. стали делить «ливонское наследство» (Пруссия, Польша, Литва, Дания, Швеция, Священная Римская империя). Причем в данном сонме государств она играла далеко не главную роль. При этом Ливония выступает как пограничная зона контакта и конфликта цивилизации и культуры Запада с Россией, полигон первой войны России и Европы. Этим и крайне интересен данный конфликт, потому что он был первым масштабным столкновением этих двух грандиозных геополитических сил, от которых до сих пор зависит судьба человечества.
Библиография
Интервал:
Закладка: