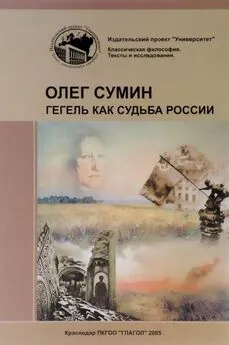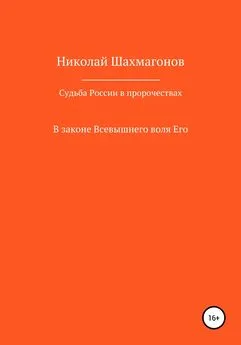Олег Сумин - Гегель как судьба России
- Название:Гегель как судьба России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Сумин - Гегель как судьба России краткое содержание
Предназначается для преподавателей, аспирантов и студентов социально–гуманитарных специальностей, а также для всех интересующихся проблемами классической философии, исторической судьбы России и славянского мира.
Гегель как судьба России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Серьезность и значимость говоримого лектором отчасти осознается аудиторией и над лекциями ведется работа по их записи и редактированию, продолжающаяся и до сих пор. Никакого систематического характера она не носит и совершается в индивидуальном порядке. Из числа многих, имеющихся в обращении записей, лучшими нужно признать лекции, записанные и обработанные Александром Ерофеевым.
Интервью
О. С.: (здесь и далее О. С. — Олег Сумин, Е. Л. — Евгений Линьков): Расскажите, пожалуйста, как Ваша судьба оказалась связанной с философией?
Е. Л.: Я вообще не собирался заниматься философией профессионально, хотя по случайности познакомился с ней довольно рано. Где то лет шестнадцати я читал Радищева, прежде всего его прозаические вещи, и в числе прочего наткнулся на трактат «О смерти и бессмертии человеческой души», который также заставил себя прочесть. Прочел и ничего не понял в той антиномии, которую он разворачивает в трактате. Я понял, что имеется два ряда выкладок: и в одну сторону вроде правильно, и в обратную правильно и не решить, смертна ли душа или же бессмертна, и что она вообще такое. Примерно трижды с интервалами, я перечитывал этот трактат, но на этой определенности так и остановился, полагая, что я его не понял. Потом только, спустя многие годы, я осознал другое, что сам Радищев останавливается на точке зрения взаимодействия в природе души и поэтому самого понимания нет и у него. А я валил все на себя. Но поскольку валил все на себя, то это толкнуло к тому, чтобы познакомиться с другими работами, сначала на тему, близкую этой. В школе полез поэтому в Декарта и т. д., вплоть до Фейербаха.
Позднее в орловской областной библиотеке мне удалось найти произведения Аристотеля, которые я также прочел. Из греков в библиотеке больше не было никого вообще, но зато был первый том истории философии Гегеля, который я тщательно продумал. Когда я уже оказался на философском факультете, меня удивило то, что в лекциях по истории древнегреческой философии я абсолютно не нашел ничего, чтобы меня поучило после этой книги Гегеля.
И тем не менее, несмотря на такую подготовку, я не собирался на философию, а субъективно хотел совсем другого — готовил себя к какой–то форме деятельности в искусстве, вследствие того сам занимался теорией и практикой искусства: делал опыты в литературе, пробовал себя в живописи. Но через некоторое время, вследствие придирчивого отношения к тому, что я рисовал, писал и т. д., я постепенно склонился к тому, что в общем все, что я делал несет в себе огромный момент подражания. И я отказался от того, чтобы поступать куда–либо с претензией быть творческим деятелем и склонился к тому, чтобы поступить на отделение теории и истории искусств. В репинский институт. Вот с этим я и приехал в 1960 году в Ленинград. Месяц провел в жарких и ожесточенных спорах с выпускниками Академии — художниками, архитекторами, с которыми познакомился в общежитии, и в результате этой круглосуточной полемики пришел к выводу, что для того, чтобы заниматься теорией и историей искусств, нужна серьезная подготовка в области философии, для того, чтобы перейти к эстетике. И я уехал. С намерением поступить на следующий год на философский факультет. И мне это удалось.
О. С.: Когда Вы утвердились в мысли, что только диалектическая философия может оправдать звание философии?
Е. Л. : Это мнение у меня сложилось окончательно на грани ломки между студенческой и аспирантской скамьей, т. е. конец студенчества и начало аспирантуры. Решающим пунктом для меня было осознание того (после ознакомления с источниками от Парменида до Канта), что собственно процесс: природный и духовный, за все три тысячи лет, удалось изобразить только Гегелю, совсем не материалисту. Я понял, что такие великие вещи не открываются на ложной предпосылке. Сомнение зародилось серьезное, основательное, которое ставило под сомнение всю историю материализма, номинализма и т. д.
О. С. : Сыграло ли в утверждении Вашей точки зрения какую- то роль то обстоятельство, что в «официальной философии» постоянно слышались перепевы, призывы к диалектике, к диалектическому способу мысли?
Е. Л.: Конечно сыграло. Благодаря осознанию противоречия, которое в этих призывах содержалось, я впал в сомнение: возможно ли вообще на основе так называемого материализма рассмотрение диалектического процесса чего бы то ни было?
О. С.: То есть это постоянное обращение материализма к «диалектике» все же послужило для Вас чем–то вроде внешнего стимула?
Е. Л.: Это была отрицательная форма, которая окончательно укрепила меня в необходимости самым внимательным образом присмотреться к тому, что больше всего охаивалось под названием идеализма. Ну а потом уже к этому присоединилось само содержание — когда я начал сравнивать досократовские формы философии с сократовской и т. д., да еще ставил уточняющие вопросы типа: а правда ли, что бытие Парменида материально? Ту я уже вошел в содержание, которое ничего уже не оставляло от материалистической трактовки истории философии.
О. С. : Как вы считаете, сыграла ли для истории русской культуры какую–то определяющую роль гегелевская философия? То есть, находится ли эта философия в каком–то особенном отношении к русской культуре, по сравнению с культурами других народов? Чижевский, например, в своей работе «Гегель в России» находит следы гегелевской философии даже в литературе, поэзии, чего нет практически ни у кого.
Е. Л.: Это очень большое преувеличение со стороны Чижевского. В действительности в отношении к древнегреческой и немецкой философии — я беру специально эти формы–русская культура, русская философски окрашенная мысль не ушла дальше рассудочного усвоения этой философской определенности. Доказательство — творчество Соловьева, которое полностью не выходит из этого. Да и не только его, взять хотя бы и Герцена, не говоря уже об остальных — в трактовке и понимании Гегеля дальше его определения как вида рационализма Нового времени, т. е. как вида рассудка, они не идут. Отсюда и утверждение Герцена о необходимости, якобы, рассудочную форму теории дополнить практикой и соловьевское представление о вселенском всеединстве. Но вселенское всеединство ведь это же еще не абсолютное понятие! Это не лучше, чем вода Фалеса, бытие Парменида или нус Анаксагора.
О. С. : Значит Вы считаете, что никакой традиции в изучении гегелевской философии, даже в ее непосредственной форме, в России нет?
Е. Л.: Совершенно верно. То, что рассудок интересовался Гегелем — это да, но то, что он достиг разумности в отношении Гегеля — нет. Но то, что этот рассудок через свою форму рефлексии или одного момента рефлексии положительно относился к гегелевской философии — даже при рассудочном понимании — это похвально.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: