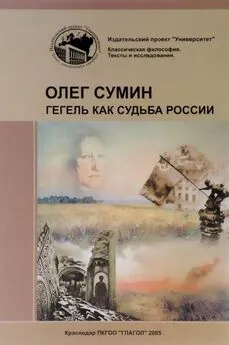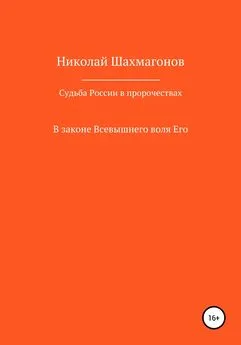Олег Сумин - Гегель как судьба России
- Название:Гегель как судьба России
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2005
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олег Сумин - Гегель как судьба России краткое содержание
Предназначается для преподавателей, аспирантов и студентов социально–гуманитарных специальностей, а также для всех интересующихся проблемами классической философии, исторической судьбы России и славянского мира.
Гегель как судьба России - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Здравствуйте Олег и Вили!
Спасибо за весточку от 4.08.02. Отрадно, что философская жизнь продолжает кипеть вокруг Семеныча (Е. С. Линькова — О. С.).Какое устойчивое излучение имеет его философия! Ее можно принимать, можно — не принимать, но никак относиться к ней нельзя. Лишь один вопрос возникает после встречи с ней: что, собственно, она несет нового? Видно сам сатана, выражая какую–то роковую для разума традицию, по–лакейски провоцирует нас задаваться этой проблемой. Что может помочь этому горю? Перефразируя слова М. Жванецкого, скажем так: злой дух хочет поставить нас в тупик вопросами (о делах дорогих нам людей), мы же его самого поставим в тупик нашими ответами. Красной нитью через все творчество Евгения Линькова проходит утверждение об абсолютности философского познания. Ну, и что из того? Еще у Платона мы слышим о философии как лучшем даре богов. Повтор? Е. Линьков говорит, что только познание всеобщего в чистой форме интеллекта может обеспечить философии философичность. Но всякий, кто заглядывал в историю философии, подтвердит, что это тот пункт, с которого не сходила вся средневековая философия и философия Нового времени. То, что нужно тщательно исследовать, то, как возможно такое познание по форме — это мы знаем от Канта. То, что нужно привести в соответствие возможность этой формы с содержанием, — эта новизна закреплена за Фихте и Шеллингом. Наконец, действительность этого приведения, составила славу Гегеля. Так, что же остается за Е. Линьковым? Только ли опыт дезавуирования диамата и истмата как необоснованного, варварского вторжения якобы философии в суверенные пределы естествознания и гуманитарных наук (воровства предмета)? Только ли эскизное разоблачение опытов послегегелевской западной философии, повторяющих давно пройденные этапы исторического движения философии (воровства метода)? И все? Неужели, проверяя истинность того, что говорит Е. Л. (Евгений Линьков — О. С.),на «проклятое» требование духа быть новым, следует с сожалением констатировать, что просто потому, что философия не может не быть даже тогда, когда она достигла своей логической формы, она в его лице (и ему подобных) обречена говорить то же, что говорили когда–то великие? Неужели специфику каждого современного философа ранга Семеныча (а это — высший ранг) составляет разность случайных деталей (исторических, языковых, эстетических, идеологических и т. д.), т. е. — манерность? Еще М. Хайдеггер, как бы беря на себя эти нелицеприятные вопросы и объявляя бой всякой традиции (ориентирующейся на принцип новизны) дает свою трактовку истины («а лейтейи»). Он утверждает, что раскрытие заговоренных традициями смыслов, во сто крат важнее всех новостей вместе взятых. Его феноменологическое предложение таково: философия должна прекратить погоню за «новостями» и стать, наконец, самой собою; для этого нужно сознательно нацелиться на «старость». По–моему, Е. Л. в этом пункте совершенно солидарен с немецким философом. И все же, в их собственном творчестве есть нечто, опрокидывающее этот важнейший для них пункт. Они сами создают конструкцию, которая того и глядишь, может превратиться в традицию, естественно, в свою очередь, затемняющую суть дела. Что если философия, освободившись от своих исторических форм, стала не столько иначе познавать, сколько иначе вести себя. Для пояснения обращу внимание на очень любопытную мысль Ж. — Л. Нанси о том, что в современности философия не столько бытийна, сколько со–бытийна (позволяет людям не столько понимать себя, сколько друг друга), с одной стороны, и на утверждение Библера о ее диалогической природе, с другой. Вернее, нет никаких двух сторон, они (и Нанси и Библер) просто подчеркивают одну черту в современной философии, которая кажется им очень примечательной. Из всех современных философов Е. Л. ярче всех представил (презентовал) свою философию (эпатируя, как и Хайдеггер, не новизной, и, демонстрируя полное равнодушие к философской «оскароностности» (т. е. обладанию награды «Оскар» — О. С.)таким образом, что она оказалась изначально подставленной не под непосредственное отрицание другой, более высокой философией, а как–то иначе. Закономерно возникает вопрос: как именно? Есть одна замечательная книга о том «как», называется она — «Наука Логики». В ней Гегель не только описывает, но и предоставляет опыт о трех «как»: непосредственном, рефлексивном и развивающемся. Так вот, диву даешься оттого, что уже столько лет прошло после появления этой книги, а «шапка» логики непосредственности (Бытия) упорно продолжает примеряться направо и налево; и, причем не к случайной особенности, а к наиболее ярким звездам философским звездам современности. И все это происходит после пушкинской «истории села Горюхино»? С одной стороны все понимают, что философия Линькова, Хайдеггера, Гуссерля, Нанси и др. есть факт, от которого не отделаешься, не скроешься в историко–философских системах, что современная философия больше, чем просто история философии; с другой же — ничего в смысле нового эти звезды как бы и не говорят. Здесь я вынужден опротестовать положение Спинозы, что «понять — значит отрицать». Не только, и не всегда. Современная философия это совершенно иной способ философского бытия. Она понимает предшествующую философию, отрицая и одновременно полагая ее всю (в этом смысле она имеет дело не с отдельными моментами историко- философского процесса, а с целым). Она — рефлектирует. Она — философское co–бытие. То есть, не логика бытия, а логика ничто (а ведь это и есть эквивалент по Гегелю способа существования сущности: «от ничто, через ничто, к ничему»). Вот как существует современная философия. Посмотрим, как это «как» высветит себя в случае с философией Е. Линькова.
Он начинает сразу же с результата истории философии: предметом (и методом) философии является всеобщее отношение мышления и бытия. Иными словами (имея в виду единство философского предмета и метода) в философии, и нигде больше, бытие до конца раскрывает себя в мышлении (гносеологически, феноменологически, трансцендентально: Кант, Фихте, Гуссерль) и наоборот, мышление раскрывает себя в бытии (онтологически, природно, исторически: Шеллинг, Хайдеггер). Е. Л. выражает это отношение во всех трех гегелевского «как», показывая попутно, (опять) как к этому идет историко–философский процесс, и как от этого отклоняется мышление, затемняющее суть дела и титулованное им рассудком. Но это только начало. Почему? Потому, что такая трактовка немедленно располагает философию к продолжению. Пусть философия есть всеобщее единство Бытия и Мышления. Здесь как бы само собой акцент падает на «есть». Но философия не только есть, она больше. Она не только сущее. Если она действительная всеобщность, то она еще и не–сущее. Для того, чтобы уже не быть, а отрефлектировать себя таким образом, ей нужно ее иное. Что это такое? Чтобы не допускать категориальных повторений, введем титул уже не бытия, а «мира» (что Хайдеггер, а вслед за ним и Сартр, собственно и делает). Мир — это то, что полагается философией. То, что ею полагается есть постисторическое бытие. Как соотносится теперь философия и мир, как существует это пресловутое бытие- в-мире? За ответом на этот вопрос Е. Л. обращается к Гегелю. Причем ведет себя здесь он как гений камуфляжности (рефлективности) Почему? Потому, что здесь обитает само отношение философии и мира, достигнувшее первого понятийного оформления. Конкретнее его представляет тема: как возможно соотношение логической и позитивной философии в системе философских наук (тема, кстати, горячо обсуждаемая и на Западе в виде проблемы так называемой «региональной философии» — см. статью Ю. Хабермаса «Философия как местоблюстительница»). Вспомним, как категорически Е. Л. отрицает необходимость опытов философии природы и философии духа. И вроде бы аргументация его как всегда безупречна: великое разделение наук наступило, тем самым за философией осталось царство чистой мысли, а природа и дух, соответственно стали прерогативой естествознания гуманитарного образования. А на вопросы: зачем же тогда Гегель <���лез> в эти сферы? следовали указания: дескать, нужно же было хоть как–то помочь рассудку и проч. Я думаю, что все гораздо глубже. Философская энциклопедия (в позитивной части) Гегеля, это незаконное вторжение в свое инобытие, было необходимо философскому бытию Е. Линькова. Ведь, посуди сам, раз вопрос об отношении философии к миру рано или поздно всегда возникает из вопроса о предмете философии, то, следуя ранее намеченной логике, не отвертеться от понятийного рассмотрения того, как из мира возникает философия. Вот где исток и тайна гегелевской философии природы и философии духа. Нигде не афишируя необходимость для себя позитивной философии Гегеля, так как только в ней впервые обосновано возникновение философии из мира, Е. Л. получает то, без чего его собственный опыт философствования становится просто невозможен. Говоря словами автора логики сущности, перед нами в лице Линькова разворачивается философское бытие, превращающее в видимость все, на что направляется его рефлексия. Ни о какой последовательности (в смысле суперсистемы) в таком философствовании речи быть не может. В сущности моменты не следуют, а рефлектируют. И даже если бы Е. Л. попытался систематически развернуть свою философию, его ждало бы фиаско М. Хайдеггера (третий раздел «Бытия и времени» так и остался неосуществленным). Впрочем, ему это и не нужно было. В то время как остальные еще пытались осуществить масштабные проекты, подражая историческим персоналиям, он прекрасно понимал с самого начала, что логическая форма философии должна не просто быть, а co–быть, т. е. быть событием. Вот где он был впереди всех. Отсюда и его знаменитая негация марксизма, современной философии, всех форм государства, всех форм нефилософского познания является отрицанием совершенно иного рода, чем
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: