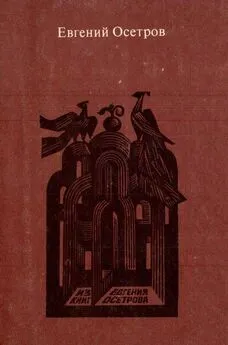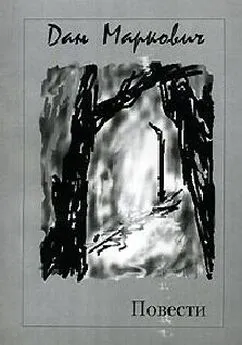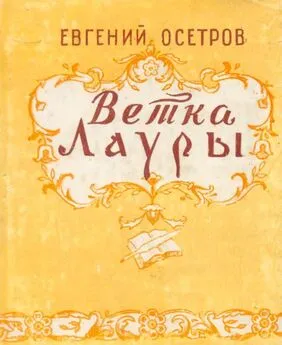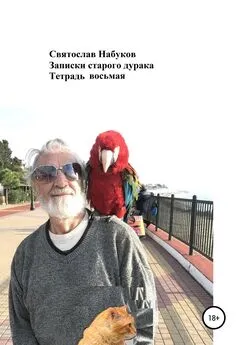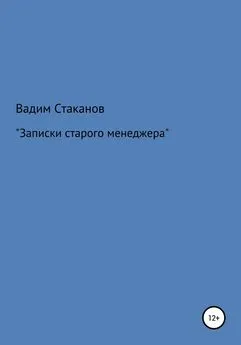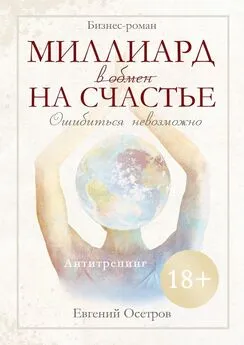Евгений Осетров - Записки старого книжника
- Название:Записки старого книжника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Книга
- Год:1984
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Осетров - Записки старого книжника краткое содержание
Предназначена для любителей книги.
Записки старого книжника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Средневековье — русское и западное — грезило Индией, мечтало ее найти как обетованную землю сокровищ. Двадцать лет спустя после Афанасия Никитина Христофор Колумб открыл Новый Свет, думая, что нашел, наконец, дорогу в Индию. Здесь, кстати говоря, уместно вспомнить замечание Александра Гумбольдта, так прокомментировавшего в «Картинах природы» одно из писем Колумба из дальнего путешествия: «Оно представляет необыкновенный психологический интерес и с новой силой показывает, что творческое воображение поэта было свойственно отважному мореплавателю, открывшему Новый Свет, как, впрочем, и всем крупным человеческим личностям».
Через четверть века после Афанасия Никитина в Индию на кораблях, пристав к Малабарскому берегу, добрался Васко да Гама, португальский мореплаватель. Вскоре воспоследовало разорение Калькутты и началось колониальное захватничество в южноазиатских морях. У многих западных путешественников были корыстные цели. Васко да Гама не просто устанавливал прямые торговые отношения, он стал вице-королем Индии.
В «Хождении за три моря» ни одно слово не сказано всуе. Положение спутников, ограбленных в дороге, Афанасий Никитин определил так: «…у кого что есть на Руси и тот пошел на Русь о кой должен, а тот пошел куды его очи понесли». Повествователь оказался среди последних, но из всех происходивших далее событий видно, что он, ни на йоту не отступив от замысленной еще дома цели, стремился попасть в Индию и шел к сказочной земле, не страшась неудач и гибели. Все, что не касалось главного, связанного с желанием увидеть собственными глазами страну, где «мужи и жены все черны», занимает странника лишь попутно. Перед его цепким взором прошли берега Волги и ее дельта. Никитин деловито отмечает, что из Дербента пошел в Баку, где «огнь горит неугасиимы». Потом — каспийские степи, крутые горы Закавказья, наконец, Иран… Нет, он не закрывает на окружающее глаза, но предельно скуп на подробности. Мы, читатели, разумеется, запоминаем Тверь с ее впечатляющим Спасом Златоверхим, людную Кострому, где была получена необходимая в пути проезжая грамота, обширный Новгород, куда прибыл посол владетеля Ширвана, везший от Ивана III подарок — кречетов, дорогих охотничьих птиц… Все это — черточки-точки, беглые «карандашные» записи, между прочим, мимоходом. Почти наверняка можно сказать, что увиденное в первую пору далекого путешествия не было для Афанасия новинкою. Иначе чем объяснить смелость и деловитость, с какой тверитянин вел свое «грешное хожение за три моря»? Волга для него была родной рекой, но, видимо, и ранее он побывал в далеком Закавказье или по крайней мере в Каспийских землях. Не исключено, что Никитин видел Константинополь. Об этом заставляет подумать содержащееся в «Хождении» сопоставление статуи Будды со скульптурой императора Юстиниана, что стояла в Константинополе. Вел ли Никитин в путешествиях дневник? В основу сочинения положены черновые записи. Тогдашнее землеведение он знал так, как наиболее осведомленные люди средневековья.
Смельчак обладал поистине адским терпением, ибо почерпнуть знание Ближнего Востока он мог только из длительных и дотошных разговоров с местными жителями, будь то пышно одетые восточные послы, торговые гости или те, кто ходили нагими, лишенными всякого имущества-достатка. Но разговоры разговаривать можно, лишь владея восточными языками, что в Древней Руси было довольно-таки редким делом. В Твери их освоить было затруднительно. Или учил его какой-нибудь заезжий купец? Раздумья над текстом записок этого не подтверждают. В конце пятнадцатого века слово «бесерменин» значило «мусульманин». В Ипатьевской летописи было сказано, что Кончак обрел «мужа такого бесурменина», стрелявшего «живым огнем». Летописец говорит в данном случае о мусульманине, пришедшем на службу к половецкому хану. В этом же смысле употребляет слово и Афанасий Никитин. Ей-ей, не впервой бывал он за хребтом Кавказским.
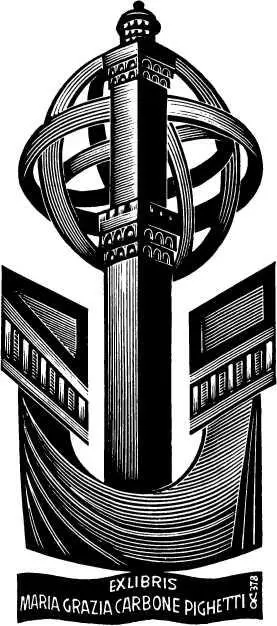
В «Хождении за три моря» постоянные споры вызывают периоды-вставки, написанные, как тюркологами теперь доказано, на татарском и таджикском языках, — ими Афанасий Никитин владел свободно. Более того, лингвисты утверждают, что восточный словарь землепроходца включал в себя тридцать-сорок индийских слов. Ученые по-разному оценивают эти ориентальные переходы. Одни считают, что купец хотел спрятать, зашифровать свои мысли-наблюдения; другие склоняются к выводу, что, оторванный от привычного быта и книг, он «в вере зашатался»; третьи видят в них некоторые литературные излишества, желание блеснуть восточной образованностью; четвертые почитают торгового гостя просто-напросто «агентом Москвы», практиковавшимся пользы ради в языковых премудростях; существует также мысль и о том, что перед нами своеобразное «плетение словес», литературное течение, олицетворяемое Пахомием Логофетом, чей стиль отличался торжественностью, хотя — скажем откровенно — точность и скупость всего прочего текста прямо-таки противостоит причудам «украсно украшенного» стиля, в котором упражнялись схоласты.
Михаил Николаевич Тихомиров, академик, в отзыве на одну работу писал, что надуманностью отличаются соображения о том, что Афанасий Никитин «не был ни бусурманином, ни христианином», а своего рода деистом, каким-то представителем вольнодумства — «Вольтером XV века». Вывод, опровергаемый Тихомировым, делался на основании никитинской фразы о том, что «бог един, бог общий для всех народов». Тихомиров пишет, что дьяки Посольского приказа в Москве, отвечая на упреки турецких султанов о преследовании мусульманской веры, признавали право мусульман держать мечети, замечая: «Всякой иноземец в своей вере живет».
Отправляясь на Восток, Афанасий Никитин знал, куда он хочет добраться. При его пытливости и любознательности едва ли он мог не знать распространенное «Сказание об Индийском царстве», переводную своего рода утопию о стране богатства и всеобщего довольства, пришедшее к читателю давно, но особенно полюбившееся в пятнадцатом веке, когда в людях проснулся жадный географический интерес к далеким мирам. Тем, кто страдал от феодальных распрей, от набегов, разбоев и пожаров, от своих и чужих лихоимцев, татей и ушкуйников, от неправды в судах, холода и мора, было необыкновенно увлекательно читать о земном рае, где царствуют справедливость и богатство, где нет ни татей, ни разбойников, ни даже завистливых людей, ибо кругом обилие и достаток. Кроме того, едва ли не с киевских времен ходила в народе былина о Дюке Степановиче, богатом госте из Индии, которого заподозрили в неумном хвастовстве, но потом наглядно убедились, что чудес и роскоши его далекой страны описать невозможно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: