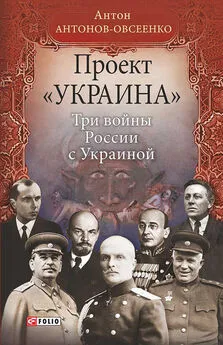Антон Посадский - Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг.
- Название:Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Центрполиграф
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-227-07689-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Антон Посадский - Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг. краткое содержание
Зеленое движение в Гражданской войне в России. Крестьянский фронт между красными и белыми. 1918—1922 гг. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Савченко дает характеристику двух руководителей зеленой — бело-зеленой, антибольшевистской — Кубани, Пржевальского и Фостикова, и их разные подходы к организации повстанческой борьбы. Собственно, Фостиков никаким зеленым себя, очевидно, не мыслил.
«Пестрая гамма мотивов толкала казачество в зеленый стан. Одни убегали от красной мобилизации, другие боялись расплаты за ретивое участие в белом движении — атаманы, шкуринцы-волки, корниловцы-первопоходники, кое-кто зарвался в первые дни большевистской власти и был взят на заметку как неблагонадежный; эти боялись возможных кар. Немало было в повстанческом стане и идейно не приемлющих коммуны. Лес их всех объединял общностью задачи — борьбы с красной властью. В лесу всегда находилось несколько человек сильной воли, «вождей»; вокруг них и собирались маленькие зеленые рати, постепенно сливавшиеся друг с другом.
Четкого, мало-мальски хотя бы определенного политического лица зеленая громада не имела.
На позиции рядом лежит в цепи казак-монархист, полагающий, что «без царя нельзя». и казак-самостийник, убежденный, что «пора уже казачеству своей головой жить». Тут же можно встретить и казака-большевика, который за казачьи советы, но без коммунистов. И всех их объединяет сегодняшний день, неприятие «коммуны», которую упрямо насаждают большевики». Такова оценка кубанской зеленовщины лета 1920 г. Савченко, который сам влился в ее ряды.
«Крыжановский и Фостиков. Вокруг этих двух имен сконцентрировались две значительные повстанческие группы, работавшие в параллельных направлениях, каждая на свой страх и риск.
Это не враждебные друг другу группы, но и не дружественные.
Два зеленых центра.
Лихой генерал и «полосатая рубаха».
Полковник Крыжановский, полагаю, был далек от игры в кубанского Наполеона. Он подчинил бы, несомненно, свой корпус генералу Фостикову, если бы не было некоторых принципиальных «но».
Главное «но» состояло в том, что Фостиков вел себя как диктатор. Создав вокруг себя правительство, составленное из случайных людей, Фостиков стал на него опираться как на «кубанскую власть». Он объявил мобилизацию, за уклонение от которой грозил всяческими карами; он учредил зеленый военно-полевой суд. К местным казакам, так или иначе причастным к советской администрации (а таких было, разумеется, немало), применялись кары. Террор получил права гражданства на территории фостиковской Кубани.
Фостиков не только очищал станицы от красных, но и брал на себя устройство их внутренней жизни: он восстанавливал «старую власть» своей властью, а не волей населения.
С фронтом Врангеля он не искал смычки. Поскольку Врангель был «продолжением» Деникина, Фостиков относился к нему недружелюбно, памятуя игнорирование Добрармией кубанской автономии.
Фостиков в своей борьбе с большевиками ориентировался на самого себя.
Не то было в корпусе Крыжановского.
Крыжановский освобождал станицы от большевиков, но не насаждал там никакой власти. Он предоставлял станицам свободу самоустроения.
Фостиков армию свою строил на «старый образец»: офицеры и казаки были в погонах. Офицерам дана у него дисциплинарная власть.
Крыжановский сам не носил погон и удерживал от этого своих офицеров. Не запрещал, но отговаривал, замечая, что «это» еще успеется, а пока не всем повстанцам это импонирует. Дисциплинарной власти офицеры Крыжановского не имели. Он был сторонник добровольного подчинения. Кто не хотел подчиняться, мог уходить из корпуса, но наказаний за неподчинение Крыжановский не признавал.
Корпус тяготел к России, которую армия Врангеля представляла сейчас. К Врангелю через Кавказские перевалы Крыжановский послал гонцов и ждал «приказа главнокомандующего».
Крыжановский в своей борьбе с большевиками ориентировался на Крым. Не враждуя, но и не дружа, развивались 1-й Отдельный Кубанский повстанческий корпус и Армия Возрождения России, каждый сам по себе».
Нам представляется, что Савченко излишне акцентирует внимание на слове «зеленый» применительно к формированиям Фостикова. Он активно разворачивал, на регулярной основе, свои части, дав им название «Армия возрождения России» и сломив сопротивление в этом вопросе кубанцев-самостийников. Фостиков бескомпромиссно возрождал казачью власть, не считаясь с тем, что в условиях частой смены власти и партизанской войны это тяжело отражалось на населении. «После свержения ревкомов и расстрела «главарей», нередко казаков же освобожденных станиц, Фостиковым сейчас же восстанавливалась «старая власть», т. е. выплывал на сцену доревкомный атаман. Этот атаман, надо думать, не очень благословлял свою атаманскую судьбу, зная, что не сегодня завтра Фостиков уйдет из станицы и вслед за ним придут красные, которые сделают с зеленым атаманом то же, что сделал Фостиков с красным председателем ревкома. И чем Фостиков строже расправлялся с главарями станичной коммуны, тем больших бед ожидала станица и ее несчастный атаман, поставленный, в конечном итоге, не столько для управления станицей, сколько для того, чтобы быть ответчиком за Фостиковский суд над станичным ревкомом». Крыжановский был более мудр, строя сопротивление в новых условиях, но воинственная позиция Фостикова стянула под его командование большую часть казачьих сил. В результате собственно «зеленая» Кубань не состоялась, состоялась белоповстанческая.
В Южном Крыму был еще один очаг зеленого движения. Горы помогали скрываться от мобилизаций. Местные зеленые-дезертиры не были агрессивны, население им сочувствовало, помогали и деникинские стражники. Политическая часть штаба главнокомандующего ВСЮР 4(17) апреля 1920 г. в своей сводке по итогам работы в крымских деревнях Особого агитационного отряда констатировала и без того известную вещь — чрезвычайную усталость от гражданской войны и экономической разрухи. Даже интерес к земле отошел на второй план. «Крестьяне измучены реквизициями и поборами всяческих отрядов разных комиссий и даже отдельных групп неизвестных людей в военной форме.
Эти поборы, реквизиции и утеснения крестьян сильно настроили их против Добровольческой армии, и исправить нет возможности никакими посулами и обещаниями, вера в кои давно утеряна». Требовалось уделить внимание обострявшемуся продовольственному вопросу, ибо «голод наделает больше бед, чем полчища красных» 578. Понятно, что с такими настроениями крымские зеленые уверенно себя чувствовали в горных районах, но вряд ли были настроены выходить на открытую борьбу с белой властью.
Ситуацию изменила организующая рука большевистской партии. С января 1920 г., с появлением в горах бежавших большевиков и усилением белых репрессий, зеленые превращаются в «красно-зеленых» и переходят к повстанческой борьбе. Генерал Врангель писал о считаных десятках зеленых весной, которых, однако, усиленно пополняли большевики моторными катерами из Новороссийска и Анапы. Причем он полагал поначалу, что зеленых возглавлял капитан Орлов, автор печально известной авантюры.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: