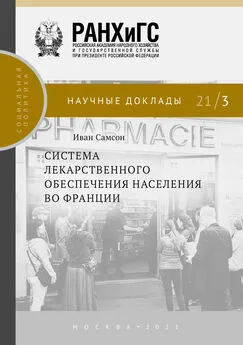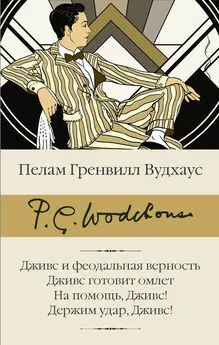Иван Лучицкий - Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции
- Название:Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИЦ «Гуманитарная Академия»
- Год:2011
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-93762-040-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Лучицкий - Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции краткое содержание
Книгу, до сих пор существовавшую лишь в малотиражном, практически недоступном издании позапрошлого века, отличает яркая художественная форма изложения событий, что делает ее привлекательной не только для специалистов-историков, но и для широкого круга читателей.
Издание снабжено обширной вступительной статьей, научный аппарат книги заново отредактирован в соответствии с современными требованиями.
Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но взиманием тальи [1391] Все то, что изложено о сборе и раскладке тальи, относится главным образом к так называемым «pays d'états», сбор и раскладка совершались иным путем, при посредстве самих жителей: правительство определяло сумму, провинция должна была ее выплатить. Но это не уменьшало зла, и разорение почти в одинаковой степени поражало и жителя «pays d’états», и жителя «pays d'election». См.: Moreau de Beaumont J.-L. Mémoires concernant les droits et impositions en Europe. T. I–IV. P., 1768–1769. T. II. P. 19 ff»190 ff.
дело не ограничивалось: существовал еще taillon , добавочный сбор, вызывавший не меньший ропот, приводивший к одинаковым результатам. То был налог, предназначавшийся также как и сама талья, на содержание войска, и был введен Генрихом II в 1549 г. с тою целью, чтобы избавить жителей от вымогательств со стороны солдат, требовавших и съестных припасов, и сена для лошадей. Правительство под угрозою самых строгих наказаний запрещало солдатам брать что-либо силою от жителей. Но эта мера, эти угрозы, как это бывало всегда, не приводили к цели. Новый сбор, производившийся на одинаковых условиях с тальей, взимавшийся вместе нею, увеличивал бремя, не спасая от разорения. Дело в том, что правительство не обращало, как то делалось прежде, ни талью, ни taillon на содержание солдат. Мы видели уже не раз, что в правление Карла IX выдача жалованья солдатам прекратилась или производилась неправильно. Солдаты вынуждены были жить грабежом, вымогательствами от крестьян денег и припасов. Само военное начальство, как видно из рассказов Клода Гатона о войсках, возвращавшихся из под Рошели в 1573 г., вынуждено было поступать также, как поступали солдаты, добывать и квартиры и припасы силою [1392] Mémoires de Claude Haton contenant le récit des événements accomplis de 1553 à 1582, principalement dans la Champagne et la Brie / Publ. par F. Bourquelot. T. I–II. P., 1857. T. 2. P. 136 ff.
. Таким образом, выходило, что народ платил двойную, если даже не большую цену за ту милость, которую оказала ему власть вводя taillon .
И вот в результате выходило, что крестьяне оказывались совершенно разоренными. «Крестьянин, говорит Боден, не имеет хлеба ни для пропитания, ни для обсеменения полей. Если же у него и окажется зерно для посева, то у него нет лошадей, чтобы обработать землю, так как или их отняли сборщики тальи для возмещения, или украл солдат, которому все позволено, или же он был вынужден продать их, так как ему негде их кормить. Оттого земли остаются без обработки и их совсем не засевают [1393] Bodin J. Discours sur les causes de l’extrême cherté // Archives curieuses. T. VI. P. 447–448.
.
Ко всему этому присоединялись и другие обстоятельства, увеличивавшие разорение крестьян, обстоятельства, или созданные самим правительством, или беспечно им допускаемые. Крестьянские посевы не были ограждены от истребления, труд крестьянина пропадал даром, и то, что он приобретал, было открытым кошельком для всякого жалеющего, был ли то разбойник, солдат или сборщик. Вот один пример того, что допускало правительство. Дикие животные представляли опаснейшего врага для крестьян; громадное количество лесов давало им простор для размножения, и они часто являлись на крестьянские поля и вытаптывали все. А правительство не только не издавало предписаний об их истреблении, не только не принимало к этому мер, а, напротив, строжайше воспрещало истреблять их. Орлеанский ордонанс позволял прогонять этих истребителей жатв криками, камнями, но строго воспрещал « les offenser » [1394] Isambert A. Recueil général… T. XIV. P. 96.
. Это было еще не особенно громадное зло: не все поля прилегали к лесам, не все жатвы подвергались опасности быть вытоптанными. Существовала масса распоряжений, поражавших всех крестьян, создавших для них значительное число шансов быть разоренными. Такова была, например, та регламентация, которая была введена правительством в экономические отношения. Правительство вмешивалось во все: оно определяло цену хлеба, издавало распоряжения о способах продажи его, запрещало свободную продажу хлеба даже между провинциями, определяло места его продажи, установляло пошлины за провоз его [1395] Ibid. T. XI. P. 515; T. XII. P. 355; T. XIV. P. 238, 261 etc.
, отягощало луга и скот крестьянина массою самых разнообразных платежей, в роде droit de pâturage, droit pour la poussière и т. п. Так, например, оно постановило, что продажа хлеба должна совершаться только на публичных рынках, назначенных самим правительством, строжайше воспретило кому бы то ни было, каково бы ни было его звание, ни покупать, ни продавать хлеба в иных местах и назначило особых чиновников, которые должны были следить за покупками и продавцами и открывать нарушителей закона и скупщиков хлеба [1396] Ibid. T. XII. P. 325–336.
. То был закон, изданный с благою целью помочь народу, страдавшему от дороговизны. Было постановлено, что хлеб продается сначала народу, а по истечении двух часов остальным жителям. Что же вышло? Начались дознания, обыски, заставившие крестьян уничтожить хлеб из-за страха быть обвиненными, как скупщики хлеба; продажа стала совершаться в меньших размерах, дороговизна хлеба увеличилась.
Но вот талья и taillon собраны, сборщики ушли. Отдыхал ли и теперь народ? Нет. То были сборщики тальи, но ими одними не исчерпывалось сословие сборщиков: место одних заступали другие, за сборщиками тальи следовали сборщики gabelle, commis des aides , и опять повторялась старая история, часто еще более возмутительная. Вот что говорит один из историков французского народа, Фейлье: «Администрация соляной подати ( gabelle ) была сущею фискальною инквизициею, установленною на всем пространстве королевства. Не отступали ни перед чем, прибегали ко всем возможным притеснительным мерам, которые могла выдумать в деле надзора и угнетения только самая хлопотливая и подозрительная полиция: смешать морскую воду с обыкновенною, чтобы сварить какую-либо овощ, значило для жителя берегов совершить государственное преступление; снабдить соседа горстью соли было равносильно нарушению законов. Домашние обыски, совершавшиеся и днем и ночью, аресты с целью предупреждения преступления, произвольные пени, все считалось дозволенным для этого кивота завета; вешали без всякого процесса извозчика, нарушившего одно какое-нибудь из бесконечных постановлений относительно возки соли; уводили скот, который забрел случайно на соляные болота; заключали в тюрьму тех несчастных, которые солили кусочек свиного сала для обеда. Каждый род соли имел свое особое законодательство; необходимы были целые армии таможенных надсмотрщиков, чтобы наблюдать за исполнением всех указов, и самое название их: gabelou сделалось бранным словом». Счастливы были те провинции, которые по особому договору, заключенному им с Генрихом II, за определенную ежегодную плату освобождались от стеснительных законов [1397] Isambert A. Recueil général… T. XIII. P. 118; Moreau de Beaumont J.-L. Mémoires… T. III. P. 27 etc.; Bailly A. Histoire financière de la France… T. I. P. 244 ff. Провинции, включенные в « Contract notable fact entre le Roy Henri II et les trois estais des provinces », были следующие: Пуату, Сентонж, Они, Ангумуа, Гасконь, Перигор, верхний и нижний Марш, верхний и нижний Лимузен и Гиень.
, или, как Бретань, освобождались от них в силу особого договора [1398] A. Histoire financière de la France… T. I. P. 244.
. Но таких провинций было немного, да одно существование в государстве такого различия между жителями, при увеличивающихся нуждах казны, составляло тем большее бремя для массы народа, отданной на произвол сборщиков соляной подати. Правительство создало при продаже соли монополию, и все дела с народом вело по принципам кулачества. Рядом законов оно установило порядок продажи соли, приказало соляным приставам и контролерам составлять списки лиц каждого прихода отдельно, которые приходили брать соль, посылать в начале года в каждый приход приказы о том количестве соли, которое должна была взять община, и тщательно сличать списки лиц, плативших талью, со списками лиц, обязанных покупать соль. Это делалось в тех видах, чтобы не дать возможности уклониться кому бы то ни было от покупки соли у правительства. Было строго предписано, чтобы лицо, не взявшее приходившегося на его долю количества соли, уплатило и самую соляную подать и сверх того было наказано пенею, определение величины которой предоставлялось сборщикам [1399] Isambert A. Recueil général… T. XII. P. 119, 410, 745 ff.; T. XIII. P. 296; Moreau de Beaumont J.-L. Mémoires… T. III. P. 9 ff.
. А цена соли установлялась самим правительством, и благодаря регламентациям соль стала непомерно дорога. Так, в начале XVI столетия соль, взятая в Гиени и считавшаяся лучшею благодаря свободе обращения, стоила очень дешево. Но правительственные распоряжения подняли цену соли до громадной цифры, довели ее до 24 ливров, а потом до 45 ливров за бочку [1400] Moreau de Beaumont J.-L. Mémoires… T. III. P. 9 ff.
. Все это было направлено, по словам правительства, к пользе и облегчению народа, но в действительности вело к тому, что многие промыслы были брошены, что множество лиц стало заниматься контрабандною продажею соли, а чрез это уменьшалось число податных сил. Правда, правительство вело упорную борьбу с контрабандистами, но эта борьба стоила дорого, увеличивала народные тяготы. Приходилось держать целые армии надсмотрщиков, создавать новых чиновников, которым назначалось большое жалованье и которые были освобождаемы от податей. При Карле IX число их достигло до значительных размеров.
Интервал:
Закладка:
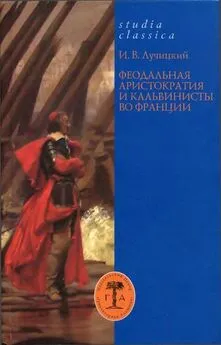

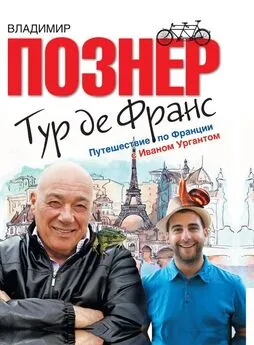
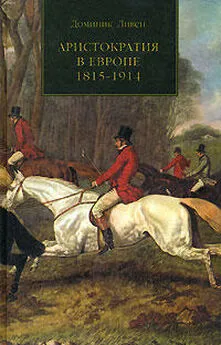
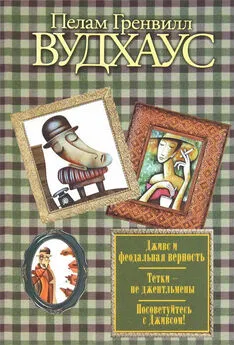
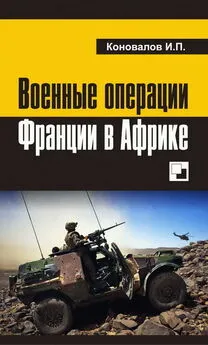

![Пэлем Вудхауз - Дживс и феодальная верность. Дживс готовит омлет. На помощь, Дживс! Держим удар, Дживс! [сборник]](/books/1101752/pelem-vudhauz-dzhivs-i-feodalnaya-vernost-dzhivs-g.webp)