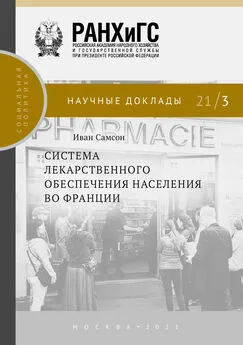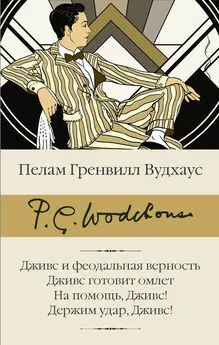Иван Лучицкий - Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции
- Название:Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ИЦ «Гуманитарная Академия»
- Год:2011
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-93762-040-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Иван Лучицкий - Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции краткое содержание
Книгу, до сих пор существовавшую лишь в малотиражном, практически недоступном издании позапрошлого века, отличает яркая художественная форма изложения событий, что делает ее привлекательной не только для специалистов-историков, но и для широкого круга читателей.
Издание снабжено обширной вступительной статьей, научный аппарат книги заново отредактирован в соответствии с современными требованиями.
Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Сильное неудовольствие проявилось и в среде знати, и даже в среде народа. «Большая часть Франции ворчала и говорила, что слишком много отдают, другие находили мир странным и невероятным, иностранцы смеялись над нами, те, кому дорога была Франция, плакали». Бриссак, резче всех протестовавший против заключения мира, был сильно возмущен вестью о том, что несмотря на его предположения, мир состоялся. «Несчастная Франция! — воскликнул он, — до каких потерь, до какого разорения доведена ты, прежде торжествовавшая над всеми нациями Европы» [127] Mémoires de Villars // Collection Michaud. T. X. P. 318.
.
Но протесты и неудовольствие не привели ни к чему. «Славный труд и храбрость бесконечного числа дворян, офицеров и солдат сделались бесполезны и для них, и для отечества» [128] Ibid.
, и дворянство должно было оставить поле брани и разойтись по домам, унося с собой разочарование, затаенную злобу и сильное неудовольствие против короля и его двора. Оно не захотело даже являться ко двору и скрылось в своих замках [129] Mémoires et correspondance de Duplessis-Momay. T. I–X. P., 1824–1825. T. I. P. 10: «La guerre finie, il se retirait en sa maison, où il mesprisoit la court et l’ambition».
, а один из дворян с свойственной ему энергиею заявил, что лучше готов бы уйти куда-нибудь в земли, лежащие за Венециею, чем возвратиться в отечество [130] Mémoires de Villars // Collection Michaud. T. X. P. 318.
.
Королевская власть создавала себе нового врага. Она отвлекала от внешней войны силы, которые теперь сосредотачивались внутри государства и могил направить свои удары против той же власти, в тесном союзе с которою она побеждала внешнего врага. Война удовлетворяла сильнейшее сословие в государстве. Она давала ему занятие и привязывала прочными узами к королевской власти, все шире и шире раздвигавшей пределы своего влияния. Борьба, которая была ведена знатью с таким упорством против Людовика XI и симптомы которой проявились на Штатах в Блуа, была забыта, заглушена громом пушек. Теперь приманка исчезла, и борьба могла возникнуть вновь. Опасность гражданской войны сознавалась уже многими. «Франция, — так говорил Виллар королю Генриху II, в марте 1559 г., — воинственна и подвижна по своей природе, и она никогда не удовлетворится миром, если не будет видеть пред собою какого-либо поприща, годного для изощрения ее храбрости, ее добродетелей. У француза нет большего врага, как мир и благосостояние, которые делают его нетерпеливым, распущенным, жаждущим волнений и презирающим и собственное благосостояние, и собственный покой, когда он имеет ввиду что-либо новое» [131] Mémoires de Villars // Collection Michaud. T. X. P. 316.
.
Эти события происходили как раз в то время, когда то положение, в каком находилась Франция, вполне благоприятствовало возникновению внутренних волнений и создавало богатую почву для возобновления только на время прекратившейся борьбы между средневековым порядком вещей и королевской властью.
Как ни была обширна в XVI в. власть французских королей, заявлявших, подобно Франциску I, о безграничности своих прав, подвергавших не формальному, а действенному суду даже таких могущественных вассалов, как коннетабль Бурбон, как ни велики были успехи, достигнутые ими в деле централизации страны. Они не были в состоянии покончить навсегда с теми средневековыми элементами, которые сохранили в значительной мере как привязанности к своим старым правам и привилегиям, так и способность отстаивать их даже в открытой борьбе и права которых нарушались расширением власти короля. Средневековый строй пустил слишком глубокие корни во французском обществе для того, чтобы работа одного или двух поколений могла уничтожить его влияние. Этот строй был выработан самим обществом, он не был навязан ему сверху или извне, и формы жизни, характеризующие его, сохраняли в течение долгого времени всю ту устойчивость и упругость, какою отличаются учреждения, выработанные массою. Все, чего могла достигнуть централизация во Франции в течение четырехвековой борьбы, т. е. до XVI в. заключалось в чисто внешнем объединении страны, в уничтожении тех аристократических родов, которые, владея целыми провинциями, были в состоянии стоять наравне, если даже не выше самого короля. Попытки достигнуть чего-либо большего, чем прямое подчинение всех власти одного феодального главы — короля, оканчивались в большинстве случаев неудачею, и меры, принятые с этою целью, лишь вызывали реакцию со стороны и феодальной знати, и городских общин. Такова была, например, судьба судебной административной реформы, предпринятой Людовиком XI. При Людовике X она сделалась одной из могущественнейших причин восстания, окончившегося полным восстановлением средневекового строя. Столетие позже она была выдвинута вновь, но вновь привела к борьбе власти со знатью и вызвала одну из сильнейших реакций в пользу сохранения старого порядка. Движение, возбужденное поступками и мерами, принятыми королевскою властью, было так сильно, что на Штатах в Блуа (1483–1484 гг.) знать, например, потребовала восстановления всех своих прав, вольностей и привилегий. Она была побуждена к тому Людовиком, «желавшим, если бы то было возможно, уничтожить знать» [132] Masselin J. Journal des Etats généraux tenus à Tours en 1484 / Ed. A. Bernier. P., 1835.
.
В XVI в. Франция представляла собою страну, нравы и учреждения которой носили на себе резкий отпечаток средневекового строя. Благодаря усилиям, ловкости и способностям королей, большая часть провинций, составляющих современную нам Францию, была включена в состав французского королевства, но почти каждая из них представляла отдельное, независимое целое. Не вдруг присоединены были они к королевству, а постепенно и чаще всего путем уступок, вызывавших известные условия, на основании которых провинция подчинялась властям. Благодаря этим условиям, часто составленным в виде письменных актов, хартий, провинции пользовались всеми теми правами и вольностями, которые они успели приобрести еще и прежние времена, времена независимости [133] Относительно Дофинэ см.: Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420 jusqu’à la Révolution de 1789 / Ed. A. Isambert et al. T. I–XXIX. P., 1821–1833. T. IV. P. 475; T. V. P. 287; T. VIII. P. 801; T. VII. P. 23 ff. (далее — Isambert A. Recueil général…); Valbon-iiais Bourchenu J.-P. M. de. Histoire de Dauphiné. T. I–II. Genève, 1722. 1 II. P. 452 ff. Король давал клятву сохранять ненарушимо привилегии. Относительно Бретани см.: Isambert A. Recueil général… T. X. P. 523, 525; T. XI. P. 119, 211, 260, 317; T. XII. P. 373; Taillandier C. Histoire ecclésiastique et civile de Bretagne. T. I–II. P., 1750–1756. T. II. P. 216, 28 ff. Относительно Лангедока см.: Isambert A. Recueil général… T. III. P. 156; T. VIII. P. 301; T. XI. P. 106 etc.
. Очень многие из провинций имели свое независимое управление. Обитатели провинций вроде Лангедока. Нормандии, Дофинэ, Бретани и др. заведывали всеми делами области. Они выбирали из своей среды представителей на провинциальные Штаты, без согласия которых король не имел права взимать или увеличивать подати. Судебные дела ведались в особых, независимых друг от друга судебных учреждениях, или парламентах, ревниво оберегавших свои права против притязаний Парижского парламента [134] Floquet A. Histoire du parlement de Normandie. T. I–VII. Rouen, 1840–1842. T. I. P. 97, 243.
. Самоуправление не было лишь простою формальностью. Почти каждая провинция, особенно же окраинные, или недавно присоединенные, сильно привязаны были и к своим нравам и учреждениям, и к своим правам и вольностям [135] На Штатах в Ванне (Бретань) было постановлено: «D’entretenir et garder les droits, libertés et privilèges du pays assures tant par chartes que autrement» (Taillandier C. Histoire ecclésiastique… T. II. P. 253). Присоединение Бретани не обошлось без протестов: «Plusieurs représentent hardiment qu’il étoit indécent de vouloir les obliger d’aller eux-mêmes au devant du joug… et de demander comme une grâce la perte de leur liberté et la ruine de leur province» (Ibid.). — Нормандия отличалась особенною привязанностью к своим учреждениям и самоуправлению: «Да, нормандцы должны сами судить себя, — говорил один нормандец, — это право им было предоставлено; и то же говорит надпись на надгробии короля (Роллона)» («Ouy, les Normands se doibvent juger par eulx mesmes, — cela leur fust accordé; et l’epitafe de Roi (Rollon) le dit»). — Floquet A. Histoire du parlement de Normandie. T. I. P. 329.
. Нововведения и реформы принимались крайне туго [136] Так, относительно Нормандии Пьер Летуаль говорит, что «…les Normands ne sont pas aiséz à ranger, à choses nouvelles», à d’Aguesseau (XVIII в.): «Les Normands sont accoutumés à respecter leur coutume comme l’evangile… qu’un changement de religion serait peut-être plus aisé à introduire en Normandie, qu’un changement de jurisprudence» (Taillandier C. Histoire ecclésiastique… T. II. P. 327).
, встречая сильное и упорное, не всегда лишь пассивное сопротивление. Жители провинций привыкли смотреть на себя как на членов отдельных независимых частей, и в их глазах жители другой, хотя бы и соседней провинции, представляли собой отдельную «нацию» [137] Massehn J. Journal des Etats généraux tenus à Tours… P. 3.
. В каждой почти провинции существовал особый диалект, часто до того отличный от других диалектов, что лица, употреблявшие его, не понимали тех, кто говорил на другом диалекте, как, например, гасконцы и жители Нормандии, бретонцы и обитатели Лангедока. Подобное же различие, поддерживавшее разъединенность в среде нации, существовало и в тех законах, которыми руководились жители отдельных провинций. Правда, большая часть страны, лежащей к северу от Луары, руководилась обычным правом, к югу кодекс Юстиниана почти никогда не терял своего значения, но в формах передачи наследства, в законах о наследстве, как и во многих других отношениях, одна провинция резко отличалась от другой, соседней, источник законодательства которой был общий с первою [138] См.: Laferrière М. F. Histoire du droit français. T. V–VI. P., 1852–1858.
. Средства сообщения между провинциями, даже между городами, (что составляет одно из немаловажных подспорьев для централизации) были крайне затруднительны, иногда совсем почти прекращались. Лишь три или четыре дороги, носившие название королевских, поддерживались хоть сколько-нибудь, все остальные пути сообщения были крайне дурны. Зимою сообщение прерывалось даже между городами, лежащими друг от друга на несколько миль. Случалось, что одна область страдала от голода в то время, когда в другой соседней было изобилие в средствах пропитания. Резкое различие в ценах на продукты было в значительной степени результатом дурного состояния дорог [139] Например, в провинциях Анжу и Орлеане мера стоила один су, тогда как в Нормандии и Пикардии — 20 и 24.
. В каком состоянии находились дороги, видно из того, что Екатерине Медичи пришлось из Парижа в Тур ехать три дня, несмотря на всю ту поспешность, с которой совершалось путешествие, что Лопиталь лишь в двенадцать дней мог добраться из Ниццы в Сен-Валье, а венецианский посол, Липппомано, делал всего по четыре мили в сутки.
Интервал:
Закладка:
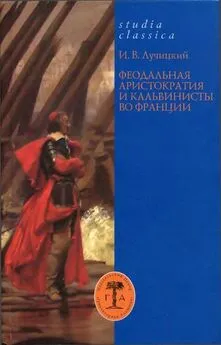

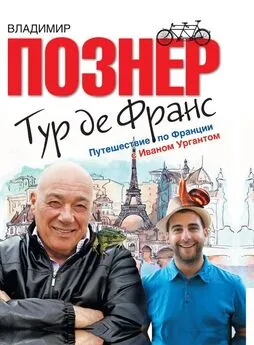
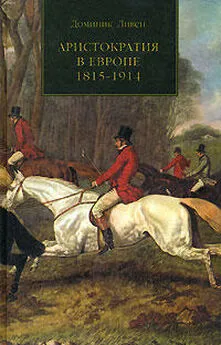
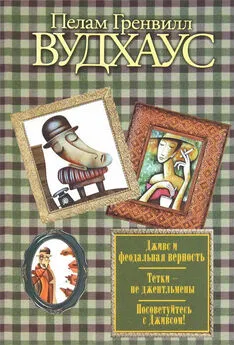
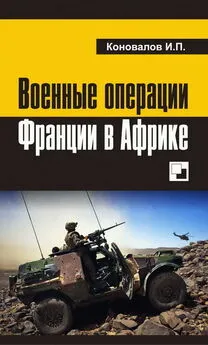

![Пэлем Вудхауз - Дживс и феодальная верность. Дживс готовит омлет. На помощь, Дживс! Держим удар, Дживс! [сборник]](/books/1101752/pelem-vudhauz-dzhivs-i-feodalnaya-vernost-dzhivs-g.webp)