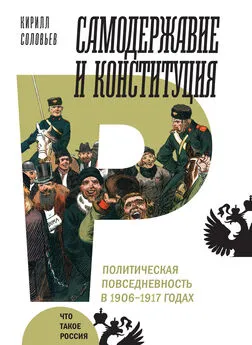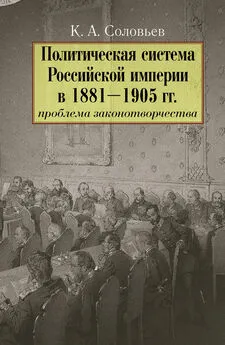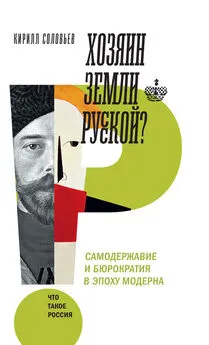Кирилл Соловьев - Самодержавие и конституция
- Название:Самодержавие и конституция
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-1089-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Кирилл Соловьев - Самодержавие и конституция краткое содержание
Самодержавие и конституция - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Депутаты учились законотворчеству, а министры учились сотрудничать с ними. Ни у тех ни у других не было опыта. Это создавало множество проблем при принятии решений. Но и при таких обстоятельствах Думе удалось принести практическую пользу стране: был упорядочен государственный бюджет, существенно увеличены расходы на образование, учитывались социальные аспекты военных преобразований при утверждении соответствующих законов и т. д. Важнее, конечно, другое: за последнее десятилетие существования империи всем министрам пришлось задуматься о перспективах деятельности своего ведомства, предложить программу его развития. Иными словами, при всей неподготовленности, недисциплинированности, а подчас и просто лени депутатского корпуса, сам факт его существования способствовал рационализации работы государственного аппарата.
Все это время, с 1906 по 1917 год, политическая система Российской империи находилась в состоянии «сборки». Она постоянно менялась. Новые порядки наслаивались на старые. В самой системе накапливались противоречия. Следствием этого были бесконечные кризисы, сопровождавшие всю историю думской России: 1906, 1907, 1909, 1911, 1912, 1914, 1915–1917 годов. Редкий год обходился без них. Но в этом не было ничего фатального. Кризис – это болезнь системы, а болезнь – признак жизни. Преодолевая ее, любой организм становится сильнее.
Проблема была в другом. Негативные тенденции, наметившиеся после 1911 года, явно свидетельствовали о том, что новый политический кризис будет иметь драматические последствия. Этот кризис объяснялся не экономической конъюнктурой, не социальной структурой, а сознанием ключевых политических игроков, которое выкристаллизовалось еще в годы Первой русской революции, когда речь шла не о компромиссах и диалоге с оппонентом, а о безусловной победе над ним. Император прекрасно сознавал, что события октября 1905 года – это его поражение. Он хотел отыграть ситуацию назад, хотя бы внешне, путем риторических формул. По этой причине новый государственный строй нельзя называть новым, но лишь «обновленным». Его нельзя было определять как конституционный, но только как «представительный». По той же причине в Основных законах перестали называть монарха «неограниченным», но продолжали именовать «самодержавным». Царь подчеркивал: все осталось словно бы как прежде, в то время как в действительности многое изменилось. Император даже подумывал о низведении Думы до положения законосовещательного учреждения, но с ним не соглашалось высокопоставленное чиновничество в лице наиболее консервативных своих представителей: Н. А. Маклакова, И. Г. Щегловитова, М. Г. Акимова.
Но все же что-то он мог сделать и без их согласия. Именно понимание императором пределов собственной власти способствовало ослаблению позиций Совета министров, претендовавшего на некоторую самостоятельность, по крайней мере в столыпинские годы. Премьеру Коковцову было дано указание «не заслонять» государя. Министры же знали, что им следовало ориентироваться не на связанного по рукам и ногам председателя правительства, а на самого императора, который назначал и увольнял их по собственному разумению. Это затрудняло деятельность не только «объединенного» кабинета, но и представительных учреждений, ведь депутаты преимущественно сотрудничали с министрами, а не с царем. Теперь же министры не могли выйти на думскую трибуну с программой широкомасштабных реформ, как это случилось в марте 1907 года. Правительство не могло предложить им политической повестки, настоятельная необходимость которой особенно остро ощущалась после 1912 года.
В Четвертой Думе с момента ее созыва были все основания для создания левоцентристского (то есть оппозиционного) большинства. В этом было повинно само правительство, его неуклюжее вмешательство в избирательный процесс. В 1912 году левое крыло законодательного собрания стало сильнее, а центр повернулся влево. Дума обретала политическое лицо, а следовательно, вспоминала партийные лозунги, которые также сложились в годы революции. Большинство политических партий того времени были недовольны существовавшим политическим режимом. Для значительной части правомонархистов Манифест 17 октября 1905 года – позорная капитуляция власти. Некоторые из них (в особенности заседавшие в Таврическом дворце) могли утешать себя мыслью, что Дума – не парламент, но учреждение, подобное Земским соборам XVI–XVII веков. Октябристы полагали, что сама власть под конец работы Третьей Думы нарушила контракт, заключенный с обществом в октябре 1905 года. С таким правительством не стоило плотно сотрудничать. По мнению кадетов, в те октябрьские дни был сделан лишь первый шаг к становлению в России истинного парламентаризма по примеру английского. В то же время для левых радикалов (трудовиков, социал-демократов) Таврический дворец представлял лишь удобную трибуну для изложения собственных взглядов.
Партийный «язык» того времени не описывал реально функционировавшую политическую систему, тем более не отмечал изменений, которые она переживала. Политические силы начала XX века словно жили в разных измерениях. Договариваться могли отдельные депутаты, общественные деятели, фракционные лидеры, но партийные форумы всегда исходили из представления об обладании монополией на истину. Они могли остаться на периферии законотворческого процесса, если бы правительство предложило депутатам собственную программу действий, но такого случиться не могло. Технический кабинет и политическая Дума говорили на совершенно разных языках, что вело к неминуемому столкновению. Причем речь шла не о личных конфликтах, амбициях, симпатиях или антипатиях, а об институциональной несовместимости двух высших государственных учреждений (впрочем, не только их).
В этом одна из коренных проблем политической жизни того времени. В России была конституционная монархия, но не было конституции. Ведь конституция – это не документ с соответствующим названием, но общие правила игры, приемлемые для большинства участников политического процесса. Эти правила в России начала XX века отсутствовали или же «игроки» понимали их чересчур по-разному. В Третьей Думе, состоявшей из «лоскутков» многочисленных и рассыпавшихся на глазах фракций, этой трудности практически не было. Партийные лозунги никто не слышал в гомоне разрозненных депутатских голосов. Да и Совет министров тогда только напоминал объединенное правительство. В Четвертой Думе – с уже очерченным политическим лицом – эта проблема вновь становилась актуальной.
Война оттянула начало острой фазы политического кризиса, но окончательно запутала положение в стране. Возник новый центр принятия решений – Ставка верховного главнокомандующего. Министры, как и губернаторы, не знали четких границ своей компетенции, в которую регулярно вторгалось военное командование. Дума терялась в догадках, с кем вести переговоры: в сложившихся обстоятельствах от руководителей ведомств зависело далеко не все. За депутатами стояли земские собрания и городские думы, чувствовавшие собственную значительную силу и призывавшие к все большей решимости. Клубок противоречий все более напоминал гордиев узел, который невозможно распутать.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: