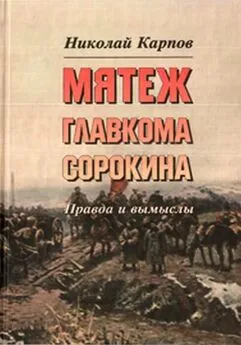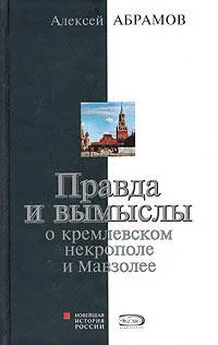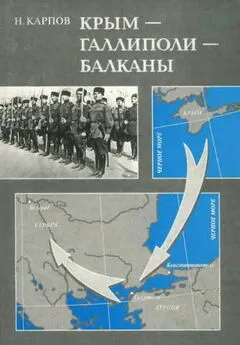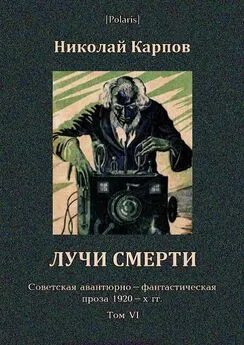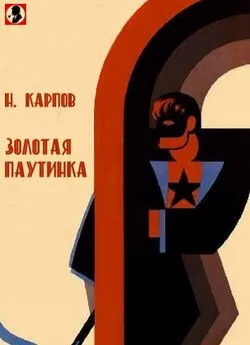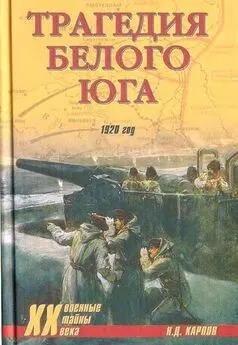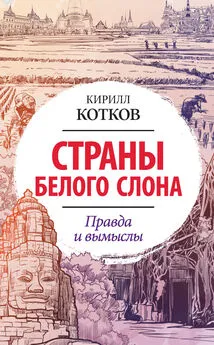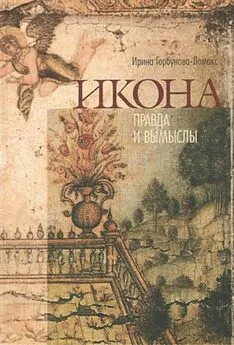Николай Карпов - Мятеж главкома Сорокина. Правда и вымыслы
- Название:Мятеж главкома Сорокина. Правда и вымыслы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:НП ИД Русская панорама
- Год:2006
- Город:Москва
- ISBN:5-93165-152-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Карпов - Мятеж главкома Сорокина. Правда и вымыслы краткое содержание
Мятеж главкома Сорокина. Правда и вымыслы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В России такие школы появились в 1838 году. Они находились при крупных военных госпиталях: Петербургском, Московском, Варшавском, Киевском, Казанском и Тифлисском. В них тогда числилось всего около 800 учеников. Школы комплектовались подростками из числа воспитанников училищ военных кантонистов [11] Кантонистские школы были военно-учебными заведениями низшего звена. Они готовили своих воспитанников для военной службы, давали минимум общеобразовательных знаний. См.: Советский энциклопедический словарь. С. 545.
в возрасте от 12 до 17 лет, умеющих читать и писать. Закончившим такую школу карьеры в будущем не предвиделось, и перевод туда кантонистов рассматривался как карательная мера. Поэтому в такие школы сплошь и рядом попадали ленивые и испорченные мальчики.
Непосредственным начальником каждой из военно-фельдшерских школ тогда назначался врач ближайшего госпиталя, а один из ординаторов исполнял обязанности инспектора, он же являлся и преподавателем медицинских наук. Практические же фельдшерские занятия велись госпитальными фельдшерами под надзором врачей и аптекарей. Окончившие курс выпускались на службу в госпитали, лазареты и войска младшими военфельдшерами.
В 1869 г. была проведена серьезная реформа этих школ. Они стали совершенно отдельными учебными заведениями, со своей администрацией, бюджетом и канцелярией. К тому времени, как Иван Сорокин собрался поступать в военно-фельдшерскую школу, на территории России их насчитывалось шесть: Петербургская — на 300 воспитанников, Киевская — на 350, Херсонская — на 200, Московская — на 300, Тифлисская и Иркутская — на 200 мест каждая. Воспитанники были на полном государственном пансионе. Существовали и две школы казачьих войск, для Кубанского и Терского — в Екатеринодаре, а для Донского — в Новочеркасске. Каждая из них была рассчитана на 75 учеников.
Казачьи военно-фельдшерские школы от обычных отличались тем, что небольшая часть их воспитанников не была на государственном пансионе, а набиралась из числа детей зажиточных казаков. Они считались приходящими. Эти ученики платы за обучение не вносили и за полученное образование никаких обязательств перед Войском не имели. Лучшие из них, если появлялись вакансии, и обязательно по желанию, переводились потом в ходе учебы на казенное обеспечение, и тогда уже как и все остальные распределялись после выпуска непосредственно в казачьи части.
После проведенной реформы во главе каждой школы теперь стоял начальник, отобранный из числа штаб-офицеров, обративших на себя внимание своими хорошими педагогическими данными. По дисциплинарным и судебным вопросам ему присваивались права полкового командира. Вторым лицом в школе был инспектор классов, назначаемый из числа врачей. Занятия по Закону Божьему поручалось приходящему священнику, а специальные предметы, обучение практической госпитальной работе вели ординаторы и фармацевты за плату.
Военно-фельдшерские школы стали считаться престижными учебными заведениями у населения среднего класса. Для абитуриентов по праву поступления было установлено целых 8 разрядов, из которых первые два предназначалась для круглых военных сирот и тех, чьи отцы убиты на войне или умерли от ран, полученных в сражениях, а также от увечья, полученного на службе в мирное время. К 3-му разряду относились сироты вообще. Дальше шли: сыновья лиц, состоящих под покровительством Александрийского комитета о раненых, сыновья кавалеров ордена Святого Георгия и знаков отличия ордена, сыновья лиц, имеющих орден Святой Анны, сыновья прочих офицеров и классных чиновников военного ведомства, сверхсрочнослужащих и нижних чинов. К 8-му разряду принадлежали сыновья прочих чинов. При этом в каждом из названных разрядов преимущество отдавалось сыновьям чинов военно-медицинского ведомства.
Отдавая сына в военно-фельдшерскую школу, Лука Сорокин наверняка рассчитывал еще и на то, что поскольку тот будет приходящим учеником, то у него будут основания по окончании учебы получить должность фельдшера в родной станице. Это было бы и почетно и выгодно. Кроме официального твердого жалованья фельдшер имел бы неплохой и приработок. В станице сложилась традиция «благодарить» за оказанную медицинскую помощь и деньгами и продуктами. Были и другие возможности для получения «приработка». Например, для поступления в военное училище или в вольноопределяющиеся молодому казаку нужна была справка о состоянии здоровья. Врач отдела, на территории которого находилась данная станица, устанавливал по собственному усмотрению оплату за такую бумажку в размере до 3-х рублей. При этом, как правило, он даже не осматривал абитуриентов, так как не без оснований считал, что все они от природы обладают крепким здоровьем. Это были очень солидные деньги для простого казака. Для сравнения станичные девчата пололи бахчи и виноградники по 25 копеек вдень; косари получали 1 рубль 50 копеек, вязальщицы снопов — 75 копеек — и все это за работу с восхода и до захода солнца. Конечно, фигура врача была гораздо солиднее, нежели фельдшера, и размеры вознаграждений последнему были, разумеется, значительно скромнее.
Был и еще один немаловажный факт, говоривший в пользу военно-фельдшерской школы. Казачество, пережив многие стадии своего становления, ко времени описываемых событий по официальному Российскому государственному определению стало называться «Казачьим сословием» и поголовно подлежало несению военной службы своему Отечеству, на собственный счет выставляя строевые конные части. Каждое казачье семейство, отправляя своего сына на действительную службу, покупало ему коня, седло, холодное оружие, обмундирование и снаряжение, положенное по арматурному списку. Для многих бедных семейств это было нелегко материально, и большинство строевых лошадей приобретались казаками ценой больших лишений. Наличие строевого коня помимо всего прочего свидетельствовало и о состоятельности казака. Безлошадному прямой путь был только в пластуны. Кубанский казак из соседней станицы Ильинской, например, Гавриил Солодухин, оставил такое воспоминание. «Когда Гражданская война докатилась до моей станицы, я очень захотел попасть в корпус генерала Шкуро. Чтобы купить мне строевого коня мать продала 8 овец (из 15 имевшихся в хозяйстве), двух свиней, корову и несколько мешков пшеницы. Насобирала 500 рублей. Еще 100 рублей и шашку подарил брат матери. Но самый дешевый строевой конь стоил 750 рублей. Так и не собрав сына в кавалерию, — пишет Солодухин, — мать сказала мне:
— Милый мой сыночек! Войди в положение своей бедной матери. Ты сам видел, как я стараюсь тебя справить, снарядить в кавалерию. Все, что я смогла продать, все продала. Не могу же я продать последнюю корову… Прошу тебя, сынок, — пожалей свою мать… иди в пластуны» [12] Солодухин Г. Жизнь и судьба одного казака. - Нью-Йорк, 1962. С. 27.
.
Интервал:
Закладка: