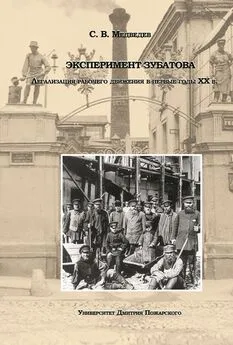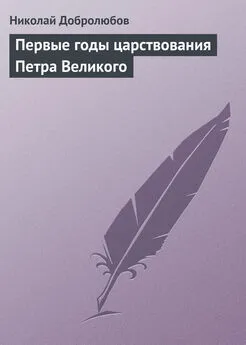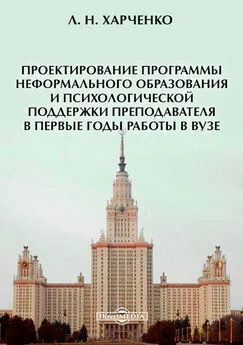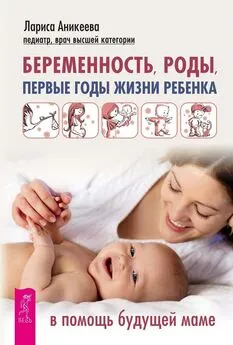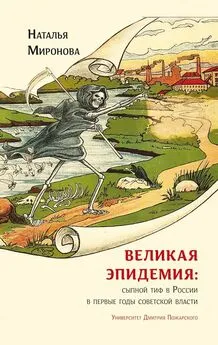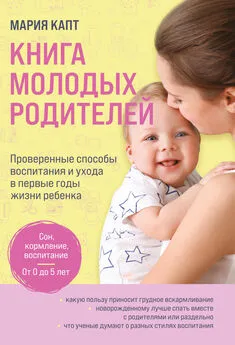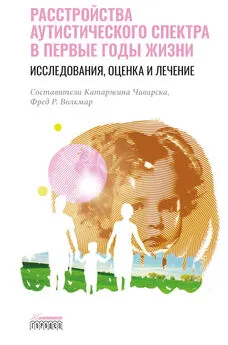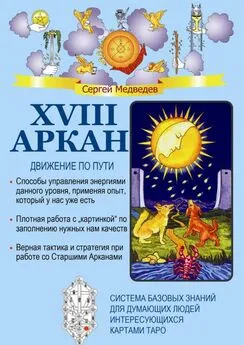Сергей Медведев - Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в.
- Название:Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91244-235-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Сергей Медведев - Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в. краткое содержание
Благодаря привлечению широкого массива архивных источников, многие из которых вводятся в научный оборот впервые, читатель представит себе атмосферу всеобщей подозрительности начала XX века, узнает интересные подробности из жизни представителей революционного подполья, рабочей среды и, конечно, секретных сотрудников Московского охранного отделения. Книга рекомендована как специалистам, так и самой широкой аудитории.
Эксперимент Зубатова. Легализация рабочего движения в первые годы XX в. - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
1.3. Организация, сыскной деятельности Московского охранного отделения
В данном разделе уместно коснуться условий, в которых проходила служба чинов полиции. Большой проблемой для Московского охранного отделения было хроническое безденежье, о чем свидетельствуют агентурные сведения из Москвы от 27 декабря 1900 г., которые сообщал С. В. Зубатов: «…были бы деньги, а прочего для практики не требуется, ибо эта система и самая выгодная, самая легкая и самая полезная для авторитета Департамента … Мы закладываемся у частных лиц, ждем денег» [285] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 226. Д. 2. Ч. 1. л. В. Л. 210.
.
Помимо финансового неблагополучия, работа Московского охранного отделения осложнялась непростыми взаимоотношениями Зубатова с московским обер-полицмейстером Д. Ф. Треповым. Сергей Васильевич был недоволен вмешательством Трепова в работу московской полиции и нередко поверял свои мысли бумаге, что нашло отражение в агентурных сведениях: «…а между тем обер-полицмейстерская власть только исполнительная, распорядительная власть у генерал-губернатора и министра (по Департаменту). Всей наблюдательной деятельностью по параграфу 6 Положения о Корпусе жандармов министр внутренних дел ведает через Департамент» [286] Там же. Л. 67.
.
По твердому убеждению Зубатова, в следственной деятельности Московское охранное отделение должно было подчиняться Департаменту полиции, в строевом же отношении – московскому обер-полицмейстеру. Путаница в разграничении сфер деятельности порождала конфликты, которые в дальнейшем отразились на эффективности работы московской полиции. Должностные полномочия Зубатова явно не соответствовали успешной реализации его инициатив, а любые начинания и мероприятия он был обязан согласовывать с далеко не всегда сговорчивым обер-полицмейстером: «Трепов властно распоряжается, но мало соображает, мы соображаем, но не можем распоряжаться. А сговориться – не в привычках Трепова » [287] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 226. Д. 2. Ч. 1. л. В. Л. 100.
.
По оценке Зубатова, компетенция Трепова в следственных мероприятиях была крайне невысокой и периодически служила причиной провалов в розыске и задержании революционно настроенных групп. Аресты и обыски, производившиеся по распоряжениям Трепова, порой компрометировали Зубатова перед собственной агентурой, завербованной из числа революционеров. Усилия обер-полицмейстера, повторяющие опыт полицейской борьбы с революционерами в прошлые годы, сводили на нет новаторские действия начальника Московского охранного отделения.
Когда в феврале 1901 г. Трепов в очередной раз провалил его планы, Зубатов написал: «Я во всем виню Д. Ф-ча: он опозорил Москву, скомпрометировал Великого Князя, явив дурной пример небывалого в Москве, который будут стремиться повторить искусственно (и не только в Москве)» [288] Там же. Л. 38.
. Состоявшиеся массовые аресты вызвали у начальника Московского охранного отделения досаду: «Мы крупицами арестовывали, а тут одним махом сведена вся работа на нет. Больно, досадно, обидно, и готов укусить свой собственный локоть, да поздно, не достанешь уж его» [289] Там же. Л. 40.
.
Вместе с тем служащие Московского охранного отделения явно не справлялись с объемом работы, который увеличивался по мере активизации революционных сил и роста забастовочного движения. Директор Департамента полиции Сергей Эрастович Зволянский был недоволен тем, что допросы арестованных лиц не достигали своих целей и почти не помогали следствию [290] Там же. Л. 41.
.
Наряду с инициативами по включению в ведение Особого отдела и Московского охранного отделения студенческого вопроса, руководство московской полиции планировало распространить свое влияние на Главное управление по делам тюрьмы. Данная мера диктовалась необходимостью единого и централизованного управления официальными учреждениями, деятельность которых была в эпицентре борьбы с революционными организациями.
Зимой 1902 г. чиновникам Департамента полиции удалось перлюстрировать письмо бывшего арестанта Бутырской тюрьмы Сергея, высланное в Гомель на имя некоего врача В. С. Барабашкина. Письмо дошло до министра внутренних дел, его заместителя, руководящих чинов политической полиции, спровоцировав нешуточный скандал. Неоднозначное письмо было посвящено описанию «сильного человека, выжившего 20 лет в живой могиле (Шлиссельбургской крепости. – С. М.)», Михаила Николаевича Тригони. «И только сила веры дала ему возможность так сохраниться и явиться нам примером и вместе с тем укором за нашу слабость: мы просидели две недели и уже развинтились…» [291] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 230. Д. 125. Л. 6.
Письмо явственно свидетельствовало о том, что вместо исправления и становления на путь истинный политические заключенные московских тюрем проходят новый этап агитации наглядным примером со стороны закоренелых и неисправимых народовольцев. Получалось, карательные и исправительные учреждения дореволюционной России превращались в школы молодых революционеров, своеобразные лаборатории по передаче опыта нелегальной работы.
Всё это не могло не волновать высшие чины полиции само по себе, но дальше в письме Сергея содержались издевательские для карательных органов сентенции: «Тригони там танцует и поет и без конца рассказывает… Через политических ему был поднесен адрес от обитателей 3 этажа и курсисток» [292] Там же.
. Читающие эти строки вряд ли могли отделаться от ощущения, что описываемые события происходят не в тюрьме, а в каком-то нелегальном клубе революционеров под прикрытием. Реакция товарища министра Петра Дмитриевича Святополк-Мирского была соответствующей: «Хорош надзор и у нас в Шлиссельбурге и в Бутырках. Я приказал вызвать в среду Полковника Обуха» [293] ГА РФ. Ф. 102. Оп. 230. Д. 125. Л. 6.
. В папке полицейского дела содержатся еще несколько перлюстрированных писем, воспевающих несокрушимую силу духа старого народовольца Тригони.
Продолжением истории стало письмо главы Особого отдела Л. А. Ратаева начальнику Московского охранного отделения С. В. Зубатову, содержащее плохо скрываемое раздражение, служебные распоряжения и язвительные формулировки: «Вашему Высокоблагородию, несомненно, известно о порядках, которые практикуются в Бутырской тюрьме, предоставляющих возможность совершенно свободно сноситься и вести продолжительные беседы с единомышленниками» [294] Там же. Л. 20.
. Упреки в адрес Зубатова были справедливы: перлюстрация писем в Москве, контроль за передвижениями неблагонадежных лиц, их выявление и арест были прямой обязанностью политической полиции. Свободная переписка арестантов, их вольное поведение в Бутырской тюрьме, доступ курсисток к арестантам свидетельствовали не только о недоработках администрации карательного учреждения, но и о серьезных упущениях чинов московской охранки.
Интервал:
Закладка: