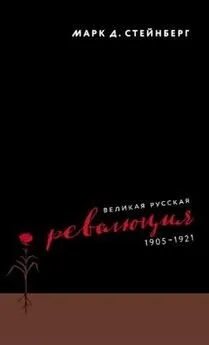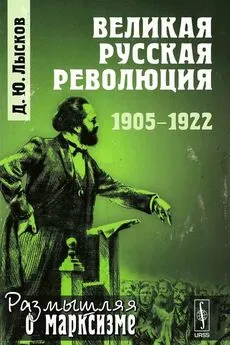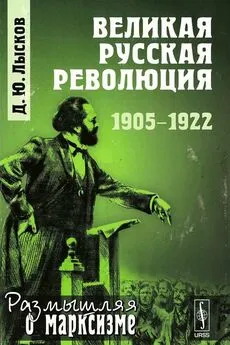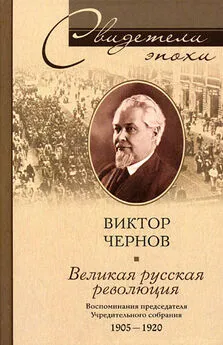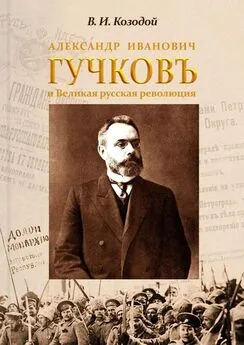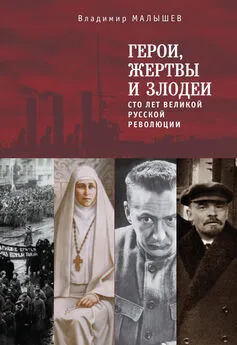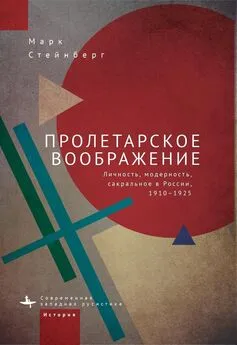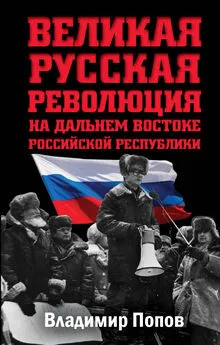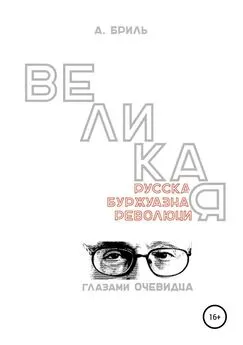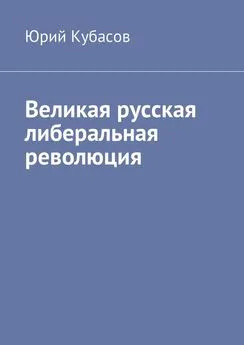Марк Стейнберг - Великая русская революция, 1905–1921
- Название:Великая русская революция, 1905–1921
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИЭП им.Гайдара
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93255-520-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Марк Стейнберг - Великая русская революция, 1905–1921 краткое содержание
Автор книги, написанной как для исследователей, так и для широкого круга читателей, обращается к текстам и голосам той эпохи, стремясь оживить прошлое и наполнявшие его смыслы. Это – рассказ о времени, полном драматизма и неопределенности, и в первую очередь – рассказ о человеческих ценностях, чувствах, желаниях и разочарованиях, придающих истории значение в глазах ее очевидцев.
Великая русская революция, 1905–1921 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Пиком революции стала всеобщая октябрьская забастовка, которая вывела на улицы миллионы людей – в первую очередь рабочих, студентов, служащих и лиц свободных профессий. Главные требования забастовщиков были повсюду одни и те же: гражданские свободы и выборы с целью установления нового конституционного строя, который, по мнению все большего числа людей, должен был представлять собой республику, а не конституционную монархию. В надежде умиротворить страну царь прислушался к совету ряда своих подчиненных (впоследствии он сожалел об этом) и в своем Октябрьском манифесте дал обещание учредить парламент, представляющий все «классы» – Государственную думу (таким словом в давние времена обозначался совещательный орган при царе), которая получит право на принятие законов и участие «в надзоре за закономерностью» действий всех должностных лиц государства (кроме самого царя), – а также «даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» [59] Этот манифест был опубликован во всех российских газетах. См. скан его текста на первой странице «Ведомостей спб. градоначальства» от 18.10.1905 г. по адресу: (последнее посещение 26.08.2016).
. Это была невероятная уступка. В своем манифесте царь обещал именно то, что, согласно его клятве, он не собирался делать никогда и что, по его предсказанию, должно было обернуться катастрофой, если бы когда-либо произошло: поделиться политической властью с представителями общества. Удовлетворенные умеренные либералы считали, что этого достаточно. Кроме того, они небезосновательно опасались того, что дальнейшая борьба может закончиться социальной революцией, которая создаст угрозу не только для политических структур. Но многие россияне хотели большего; к тому же многие из них вообще сомневались, что царь сдержит свое слово.
Такими были события в пересказе историков – достаточно авторитетном ретроспективном изложении, основанном на известных фактах и современной научной интерпретации. Другая точка зрения, чей диалог со взглядами профессиональных историков будет продолжен в этих трех нарративных главах, составляющих часть II настоящей книги, сводится к истории, согласно знаменитому изречению написанной журналистами «в настоящем времени», «в момент ее свершения» [60] См. введение.
. Одной из самых известных русских газет того времени была ежедневная московская газета «Русское слово», имевшая более-менее либеральную направленность и претендовавшая на отражение взглядов и интересов «обывателя» и даже «настроений толпы» [61] См.: Louise McReynolds, The News under Russia’s Old Regime: The Development of a Mass Circulation Press (Princeton, 1991), 171–179.
. Восстание, последовавшее за Кровавым воскресеньем, воспринималось как исторический поворотный момент – и даже новое начало. Репортеры описывали эти события как «зарю новой жизни», объявляя, что вместо «непроницаемой мглы» в стране вскоре станет «ясно, лучезарно и просторно» и что Россия находится «накануне своего освобождения», переживая историческую эпоху «обновления», «возрождения» и «ренессанса» [62] Заря новой жизни //Русское слово. 20.02.1905. С. 2; Г. П. Простые речи //Русское слово. 9.03.1905. С. 1–2; А. Россов. Катастрофа //Русское слово. 10.06.1905. С. 1; Вл. Уманский. Перед обновлением //Русское слово. 20.06.1905. C.3.
. Чувство непосредственной сопричастности к истории стало еще более сильным после Октябрьского манифеста: «Сегодня началась новая жизнь. Русская история пошла по новому пути. За все многовековое рабское существование России мы не знаем момента более сильного, более радостного» [63] Русское слово. 18.10.1905. С. 1 (передовица, напечатанная рядом с Октябрьским манифестом).
. Девизом дня была «новизна»: Россия вступала в «новую жизнь», в пору «творения», ее ожидало новое «начало», а россиянам предстояло стать «новыми людьми» с обновленным духом [64] Обновление //Русское слово. 18.10.1905. С. 1; С. Яблоновский. Свет и тени: Звон колоколов //Русское слово. 18.10.1905. С. 2; Русское слово. 19.10.1905. С. 1; священник Г. Петров. Беседа с гр. С.Ю.Витте//Русское слово. 19.10.1905. С. 1.
.
Лейтмотивом, диктовавшим суть нового, особенно в качестве желания и опыта, служило слово «свобода». Как объявлял, используя типичные выражения, один колумнист, Россия наконец-то входит в «общую семью смелых народов, идущих к свободе и счастью» [65] Вас. Немирович-Данченко. Слепая война // Русское слово. 12.06.1905. С. 1–2. (Цит. в обратном переводе.)
. Другой отмечал, что дорога будет нелегкой: «борются насмерть два великана: новая жизнь с ее свободой, свежестью и старая, дряхлая, изъязвленная, но в судорогах последних минут все-таки очень зубастая». Однако результат неизбежен: «свобода мысли, слова, личности» [66] А. Россов. Провинциальная жизнь: все по-старому //Русское слово. 13.06.1905. С. 3–4.
, или, согласно выражению, получившему популярность после Октябрьского манифеста, но восходившему к Французской революции и тем самым связывавшему русскую революцию с гипотетической всеобщей борьбой человечества, русские люди обретут мир «братства, равенства и свободы» [67] Обновление//.Русское слово. 18.10.1905. С. 1.
. Одни авторы представляли себе свободу сквозь призму практических мер – таких как выборы законодательного органа с демократическим представительством, обеспечение свободы слова и собраний, гарантированное правление закона. Другие же описывали ее посредством эмоциональных метафор: как сокровище, купленное кровью и слезами, звезду, мерцающую сквозь узкое тюремное окно прежнего угнетения, яркую комету или метеор, луч света, горящее пламя, молодое вино [68] См., например: Тан. Свободная Москва // Русское слово. 21.10.1905. С. 1.
.
Эта новая свобода определялась через понятие «гражданства». Гражданин по определению был защищен от произвола и угнетения: зарождающаяся свободная Россия станет обществом, которым управляют «закон и права» [69] С. Яблоновский. Свет и тени: Есть юрист и юрист //Русское слово. 12.02.1905. C.3.
. Но гражданство понималось и как долг: фундамент свободы составляют активные и ответственные граждане. В этой связи много говорили о пробуждении в России социальных сил, гражданской культуры и духовной силы – иными словами, о рождении «хороших граждан» [70] П. Боборыкин. Где у нас люди?//Русское слово. 20.02.1905. С. 2.
. Широкое распространение получила метафора «пробуждения». «Усыпленный и забитый народ» «пробуждался» навстречу эпохе, полной «великого исторического смысла» [71] О. Смирнов. Важное постановление земства //Русское слово. 14.06.1905. С. 2.
. Жители страны, пробудившись, поняли, что они уже не дети, и почувствовали себя «людьми», а потому стали гражданами «в высшем смысле этого слова», выросшими из «старого платья», в которое их рядили «бюрократы» и которое стало им «коротко и тесно» [72] А. Россов. Провинциальная жизнь: все по-старому //Руское слово. 13.06.1905. С. 3–4; Обновление //Русское слово. 18.10.1905. С. 1; священник Г. Петров. Личность и государство //Русское слово. 14.06.1905. С. 1.
.
Интервал:
Закладка: