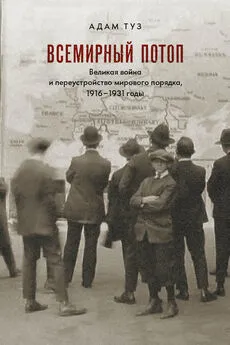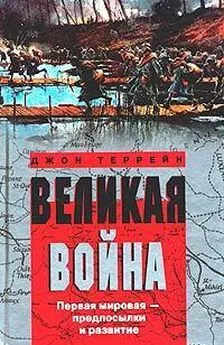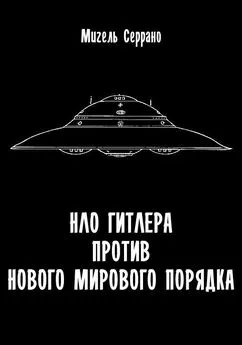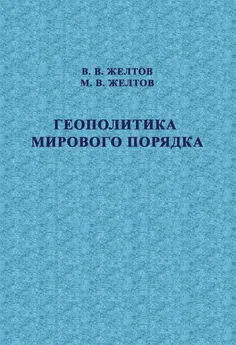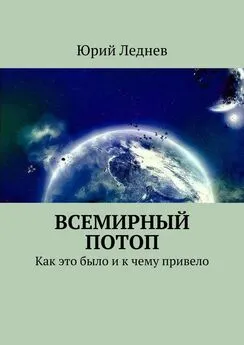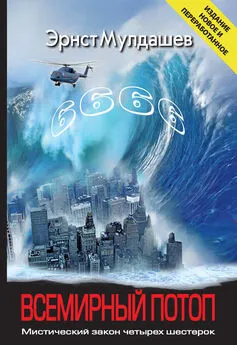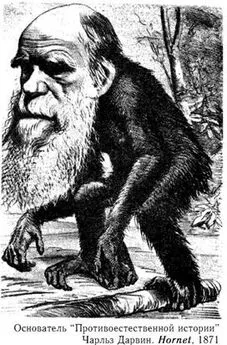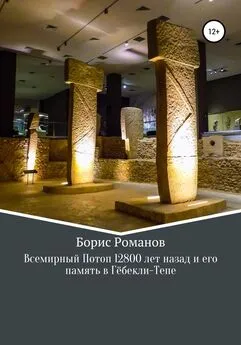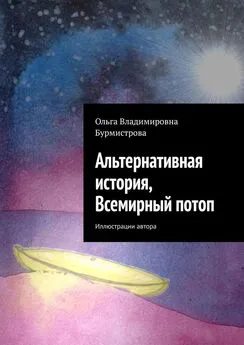Адам Туз - Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы
- Название:Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент ИЭП им.Гайдара
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-93255-503-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Адам Туз - Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы краткое содержание
Всемирный потоп. Великая война и переустройство мирового порядка, 1916–1931 годы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В тот же день под нажимом министра труда в Вашингтон для проведения переговоров прибыли шахтеры и угольные магнаты – в надежде предотвратить вторую крупную забастовку. Но и эти переговоры были сорваны, и объединение горнорабочих назначило забастовку на 1 ноября. Вильсон, в это время прикованный болезнью к кровати, поддавшись растущему влиянию Палмера, осудил забастовку шахтеров, назвав ее «совершенно неверной с точки зрения морали и закона» и попыткой вымогательства в преддверии холодных зимних месяцев [1011] PWW, vol. 63, p. 600.
. Воспользовавшись полномочиями военного времени, срок действия которых считался завершенным с заключением перемирия, Палмер запретил объединению горнорабочих участвовать в забастовке. Это привело к тому, что Американская федерация труда и Конгресс производственных профсоюзов (АФТ – КПП) заняли еще более жесткую позицию и, игнорируя Палмера, выступили в поддержку 394 тысяч шахтеров, откликнувшихся на призыв к забастовке. Но Палмер не ослаблял нажим, а члены американского рабочего движения, как и их коллеги в Британии, не были готовы к полномасштабной конфронтации. 11 ноября руководство объединения горнорабочих было вынуждено признать, что «как американцы… рабочие не могут воевать с собственным правительством». После того как в дело вмешался министр труда, принявший решение об общем увеличении заработной платы на 14 %, шахтеры вернулись на работу.
Они добились большего результата, чем рабочие-металлурги, которые 8 января 1920 года, потеряв 20 человек и более 112 млн долларов зарплаты, прекратили забастовку, закончившуюся полной победой US Steel. От этого потрясения рабочее движение в США так и не смогло оправиться [1012] D. Montgomery, The Fall of the House of Labor: Workplace, the State, and American Labor Activism, 1865–1925 (New Haven, CT, 1988).
. Разговоры об индустриальной демократии были забыты, а на смену им пришли новая дисциплина управления «индустриальными отношениями» и профсоюзы, создаваемые по инициативе компаний [1013] McCartin, Labor’s Great War, p. 199–220.
. Коалиция Демократической партии и трудовых организаций, обеспечившая победу Вильсона на выборах в 1912 и 1916 годах, распалась.
В конце 1919 года генеральный прокурор Палмер выступил с новогодним посланием, в котором обещал продолжить неустанную борьбу против «красного движения», угрожающего всему социальному строю Америки. И под угрозой были не только магнаты из US Steel. «Двадцать миллионов человек в нашей стране владеют облигациями „Займа свободы”», – напоминал Пальмер своим слушателям [1014] The New York Times, «Palmer Pledges War on Radicals», 1 January 1920.
. «Красные хотят забрать их. Одиннадцать миллионов человек хранят сбережения в банках, а у 18,6 млн человек имеются депозиты в национальных банках— и красные нацелились на них». Эта оголтелая демагогия скоро превратила Палмера в посмешище. В 1920 году «красная угроза» пошла на спад так же быстро, как и волна забастовок.
Однако сохранялась совершенно реальная угроза сбережениям миллионов американских семей, и исходила она не от анархистов или иноземных радикалов, а от безымянных и вездесущих сил инфляции. К октябрю 1919 года даже в Америке, где общество было лучше, чем где-либо, защищено от последствий войны, индекс стоимости жизни вырос на 83,1 % в сравнении с 1913 годом [1015] R. K. Murray, The Politics of Normalcy: Governmental Theory and Practice in the Harding-Coolidge Era (New York, 1973), p. 3; idem., The Harding Era: Warren G. Harding and His Administration (Minneapolis, MN, 1969), p. 82.
. Вплоть до конца 1917 года рост зарплат серьезно отставал. Только в 1918 году это отставание удалось наверстать в результате военной мобилизации экономик [1016] B. M. Manly, «Have Profits Kept Pace with the Cost of Living?», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (1920), p. 157–162, and E. B. Woods, «Have Wages Kept Pace with the Cost of Living?», Annals of the American Academy of Political and Social Science 89 (1920), p. 135–147.
. Однако с ускорением инфляции в 1919 году реальные зарплаты вновь уменьшились. Можно было бороться с забастовками, используя сформированные из бандитов охранные агентства. Судебные предписания могли запугать профсоюзных лидеров. Можно было пойти на уступки, даже согласиться на восьмичасовой рабочий день. Генеральный прокурор Палмер обещал покончить с незаконной торговлей и спекуляцией [1017] The New York Times, «Palmer Has Plan to Cut Living Cost», 17 December 1919, p. 19.
. Но все имело мало отношения к трудностям, с которыми столкнулись десятки миллионов людей, чей жизненный уровень упал в результате резкого скачка цен. В мае 1919 года демократы штата Массачусетс направили находившемуся в Париже Вильсону телеграмму, в которой напоминали ему о том, что «граждане Соединенных Штатов ожидают Вашего возвращения и помощи в снижении стоимости жизни, считая это гораздо более важным, чем Лига Наций» [1018] The New York Times, «Urge President to Return», 24 May 1919, p. 4.
. Обращение осталось без ответа. В конце 1919 года для обеспечения достойного «американского» уровня жизни хватало 2000 долларов в год. К тому времени, когда началась забастовка, неквалифицированные рабочие на US Steel требовали повышения зарплаты хотя бы до 1575 долларов в год, что обеспечило бы им скромное существование [1019] Interchurch World Movement, «Report», p. 94–106.
. Именно эта действительность, а не подрывная деятельность большевиков вызвала волну забастовок 1919 года, когда в 3600 отдельных выступлениях приняли участие 5 млн американских рабочих, что было своеобразным рекордом.
Причиной этих социально-экономических неурядиц в США и в остальном мире была не подрывная деятельность, не падение морали, а финансовый дисбаланс, вызванный войной. Последний выпуск облигаций «Займа свободы», названный «Займом победы», состоялся весной 1919 года и был направлен на то, чтобы использовать избыточную покупательную способность и консолидировать правительственные финансы. Этот заем принес 4,5 млрд долларов. Но так как во время войны средства на приобретение облигаций брались большей частью не из сбережений, а за счет банковских кредитов, это вело лишь к усилению инфляционного давления. В течение 1919 года объем бумажных денег в обороте вырос на 20 %. При таком уровне инфляции нельзя было не ожидать, что рабочие начнут организовываться, чтобы выступить в защиту уровня своей жизни.
На финансовых рынках также наблюдались признаки беспокойства. Осенью министерство финансов пыталось рефинансировать 3 млрд долларов в краткосрочные сертификаты [1020] H. L. Lutz, «The Administration of the Federal Interest-Bearing Debt Since the Armistice», The Journal of Political Economy 34 (1926), p. 413–457.
. Рынки неохотно шли на долгосрочные займы, ожидая существенных изменений условий кредитования, и достаточно скоро. Однако в последние недели 1919 года в противостоянии участвовали не только президент и Конгресс или профсоюзы и генеральный прокурор. Необычного уровня достигли трения между министерством финансов и Федеральным резервом. Желая привлечь долгосрочные инвестиции и остудить рынок, нью-йоркское отделение ФРС во всеуслышание требовало повышения процентных ставок [1021] M. Friedman and A. J. Schwartz, A Monetary History of the United States, 1867–1960 (Princeton, NJ, 1963), p. 222–226.
. Однако на всем протяжении 1919 года, поскольку инфляция росла, а золотой федеральный резерв сокращался, министерство финансов противилось этому. Дилемма заключалась в том, что любое значительное повышение процентных ставок влекло за собой обесценивание огромного числа облигаций «Займа свободы», по которым доход составлял лишь 4,25 %. Повышение ставок по новым займам означало резкое снижение ликвидности облигаций «Займа свободы» и ущемление интересов тех, кто отдал свои накопления на нужды военной мобилизации экономики. Как заявил 4 сентября 1919 года на заседании Совета управляющих ФРС заместитель министра финансов Рассел Леффингвелл, если цена облигаций «Займа свободы» упадет ниже 90 центов за доллар, это вызовет непредсказуемую реакцию в Конгрессе и панику на рынке ценных бумаг. Ситуация осложнялась необычайно широким распространением облигаций и их чрезвычайно низкой доходностью, которая была определена на момент выпуска. Никогда прежде федеральное правительство не сталкивалось с государственной задолженностью такого масштаба. До войны держателями государственных облигаций выступали в лучшем случае несколько сотен тысяч состоятельных инвесторов. Теперь речь шла об активах миллионов обычных домашних хозяйств. Во второй половине 1919 года, несмотря на потребность в новых деньгах, министерство финансов было вынуждено израсходовать 900 млн долларов для выкупа находящихся в обращении облигаций «Займа свободы» и поддержания цены на них [1022] A. Meltzer, A History of the Federal Reserve (Chicago, IL, 2003), vol. 1, p. 94–95.
.
Интервал:
Закладка: