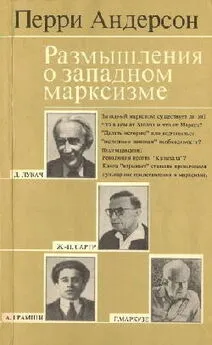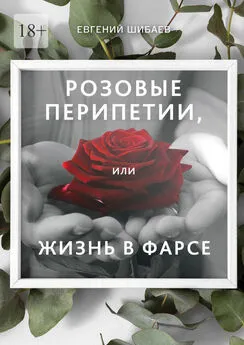Перри Андерсон - Перипетии гегемонии
- Название:Перипетии гегемонии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство института Гайдара
- Год:2018
- Город:М.
- ISBN:978-5-93255-525-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Перри Андерсон - Перипетии гегемонии краткое содержание
В первом полноценном историческом исследовании понятия «гегемония» известный британский историк Перри Андерсон прослеживает его истоки в Древней Греции, повторное открытие во время волнений 1848-1849 годов в Гер-мании, а затем причудливую судьбу и революционной России, фашистской Италии, Америке времен холодной войны, тэтчеровской Британии, постколониальной Индии, феодальной Японии, маоистском Китае, вплоть до мира Меркель, Мэй, Буша и Обамы.
Перипетии гегемонии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В Японии того же периода конфуцианская ученость получила развитие в совершенно ином направлении. Там с XII века правили воины, а не чиновники, и в этом феодальном обществе с декоративной императорской линией, но без централизованного государства высшая политическая власть принадлежала сёгунам, верховным военачальникам страны. После 150 лет внутренних раздоров сёгунат Токугава сумел к началу XVII века установить в стране мир и создать устойчивый режим «бакухан», при котором конфуцианские идеи смогли впервые по-настоящему укорениться. Но контекст, в котором это произошло, радикально отличался от китайского. Здесь не было системы экзаменов, почитания предков и конфуцианских храмов. Традиционно легитимация власти обеспечивалась буддизмом, позиции которого в Японии были намного сильнее, чем в Китае, или синтоизмом. Конфуцианские интеллектуалы — обычно деклассированные врачи, монахи или самураи — начинали, соответственно, с маргинальных позиций, к тому же их могли обвинить в непатриотичном синоцентризме. И все же китайская куль тура всегда пользовалась в Японии огромным уважением, и они могли опираться на более обширный и сложный, чем у соперников, корпус знаний, когда претендовали на влияние на бакуфу (правительство сегунов), которое постепенно — ко времени четвертого или пятого сегуна Токугава — включило их в свое правление, хотя и не предоставило им статуса, который имелся у их китайских коллег. В го же самое время, поскольку в Японии не было бюрократической централизации власти, в структурном отношении они были во многом свободнее, чем китайские ученые. Дело в том, что бакуфу не только сдерживалось императорским двором, который, хотя и был на практике бессильным, сохранил определенную символическую ауру, но и контролировало напрямую не более трети страны, остальную часть которой образовывали феоды «даймё», у каждого из которых были собственные доходы и воины. Даймё присягали сёгуну, однако управляли своими доменами не зависимо от него. Кроме того, феодальный порядок в Японии, что вполне объяснимо, допускал более динамичную торговую культуру в Эдо и Осаке, чем автократия Цин в городах Китая. В этом более пестром ландшафте места для независимой мысли было заметно больше.
В этих условиях конфуцианцы столкнулись с политическими вопросами, по которым в их китайских источниках почти не было подсказок. Единство царства было в классическом китайском каноне абсолютной ценностью, которая со времен Цинь выражалась в практической форме в виде централизованного имперского государства. Но хотя разделение государства было совершенно недопустимым, свержение династии оставалось приемлемым. Мандат небес можно было подделать. Он предоставлялся во временное пользование и не был неотменяемым титулом, го есть мог постфактум передаваться предводителю успешного восстания. В Япония конфигурация была прямо противоположной. Суверенитет был поделен между военным правителем, фактически управляющим страной, и императором с его остаточными функциями, который теоретически делегировал власть этому правителю. С другой стороны, императорская династия могла быть бессильной, но она не прерывалась. Китайские императоры выдавали себя за «сынов неба»; но этот титул был метафорическим: никто не понимал его буквально, да и само небо оставалось абстракцией. Японские же императоры, согласно официальной мифологии, являлись плодом соития богини Аматерасу с ее братом (хотя биологически они были корейского происхождения). Из-за этого божественного религиозного происхождения любая их замена, в отличие от нейтрализации, стала буквально табу. Как же следовало теоретически осмыслить это сочетание — внутреннее противоречие разделенного суверенитета? У конфуцианцев имелась готовая дихотомия царя и гегемона —— по-японски «о» и «ха». Следовало ли сопоставить эти понятия с императором и сегуном? И если так, что нужно было сделать с их валентностями — сохранить или изменить? Был ли сам этот разделенный суверенитет аномалией, которую следовало не легитимировать, а критиковать и преодолевать?
Пытаясь разобраться с этим комплексом проблем на протяжении более чем 200 лет правления Токугава, японские интеллектуалы не только создали более яркий и богатый корпус политической мысли, чем было возможно в период Цин, но и были вынуждены изменить значения и коннотации «вандао» и «бадао». Вначале ведущий исследователь «ру» Ито Йинсай (1627-1725), который обычно избегал вопросов о государственном устройстве, придерживался как нельзя более ортодоксальной позиции, заявляя: «Различие между истинным царем и гегемоном является первым принципом конфуцианства». Более оригинальный и в большей степени ориентированный на политику мыслитель Огю Сорай (1666-1728) начал составлять комментарии к Хан Фэй-цзы, когда тог все еще оставался в Китае «проклятым автором» [113: 88], и критиковал Мэн-цзы за то, что последний моралистически противопоставлял «вандао» и «бадао». «Истинные цари, — писал он,— отличаются от гегемонов только в силу ранга, отвечающего их историческим эпохам», а не человеколюбием или какими-то методами правления. Ведь, если гегемонам приходилось прибегать к принуждению, «с этим, — продолжал он, — нельзя было ничего поделать». В конце концов, «у Конфуция не было удела и в один шаку, а потому он не мог получить власть. Даже если человек может быть добродетельным, как он мог бы избежать применения силы?» [150: 334-337] [9-9].
Сорай, который был невысокого мнения о культурном уровне военных правителей страны и его времени, и прошлого, которых он всех, за исключением основателя Токугава Иэясу, считал «необразованными», не предложил проработанного оправдания бакуфу, которое бы имело такое основание,— «ха» оставалось слишком спорным термином, чтобы применяться к сёгуну. Но поскольку он открыто говорил о том, что считает императорскую династию в политическом отношении мертвой, а его критерии осуществления власти были определенно консеквенциалистскими, критики поспешили наброситься на него самого как того, кто немногим лучше «конфуцианского гегемона», то есть «ха», изображающего благородство, чтобы посеять смуту [9-10]. Собственно, так действительно можно было подумать, если прочитать его неопубликованный трактат о правлении, в котором было много неприятных высказываний о социальных пороках того времени: в числе его предостережений замечание о том, что, «хотя все даймё являются вассалами сёгуна, некоторые могут втайне считать императора истинным сувереном, поскольку их титулы даруются им императорскими грамотами, а указы о назначении выпускаются двором. Если они продолжают ощущать себя вассалами сегуна просто из страха перед его властью, в будущем могут возникнуть беспорядки» [174: 192-193] [9-11]. Вслед за Сораем его ученик Дадзай Сюндай (1680-1747) утверждал, что рецепты Мэн-цзы были замечательной политической диетой в обычные времена, но для излечения от болезней нужны сильные лекарства, то есть рецепты легализма, когда главной задаче любого правления, то есть обеспечению материального благосостояния народа, может послужить не «вандао», а «бадао». Императорская династия представлялась просто «провисшей нитью», не способной ответить на социальные нужды; сёгун, который мог решить эту задачу заслуживал титула «славного правителя».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
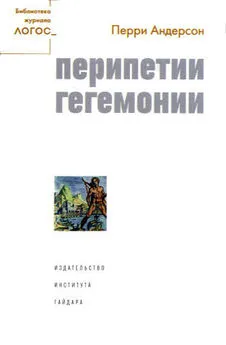

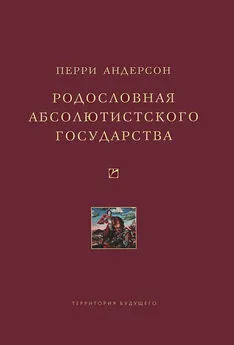
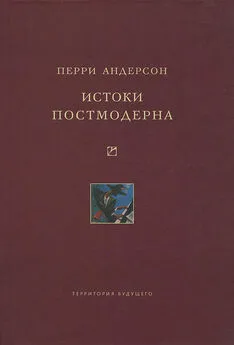
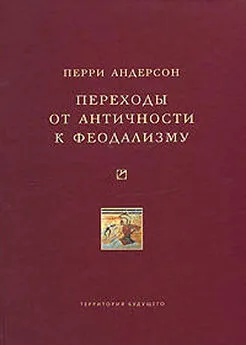
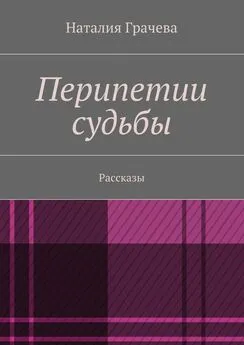

![Диана Гэблдон - Написано кровью моего сердца. Книга 1. Перипетии судьбы [litres]](/books/1084788/diana-gebldon-napisano-krovyu-moego-serdca-kniga.webp)