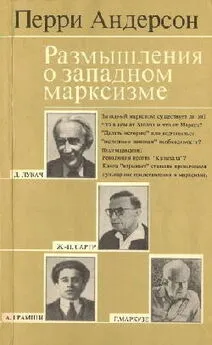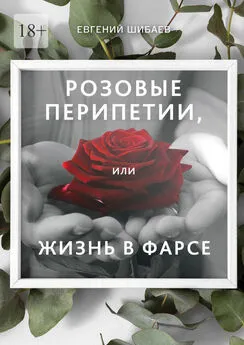Перри Андерсон - Перипетии гегемонии
- Название:Перипетии гегемонии
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство института Гайдара
- Год:2018
- Город:М.
- ISBN:978-5-93255-525-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Перри Андерсон - Перипетии гегемонии краткое содержание
В первом полноценном историческом исследовании понятия «гегемония» известный британский историк Перри Андерсон прослеживает его истоки в Древней Греции, повторное открытие во время волнений 1848-1849 годов в Гер-мании, а затем причудливую судьбу и революционной России, фашистской Италии, Америке времен холодной войны, тэтчеровской Британии, постколониальной Индии, феодальной Японии, маоистском Китае, вплоть до мира Меркель, Мэй, Буша и Обамы.
Перипетии гегемонии - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Не подписываясь под представлением о воде как преграде и считая моря скорее глобальным достоянием, управление которым допускало именно что отступление американских сил, рекомендованное Миршмайером, Барри Позен из Массачусетского технологического института сумел отказаться от оговорки насчет региональности и найти для либерального империализма подходящий ему синоним. Его крайне язвительная работа о современной внешней политике Америки открывается простым диагностическим утверждением: «США утратили способность сдерживать свои амбиции в международной политике». В чем же причина? «После распада Советского Союза они следовали большой стратегии, которую можно назвать „либеральной гегемонией"» [157: xi]. Эта стратегия не является политикой статус-кво; она по самой своей природе экспансионистская. Ее главными вехами стали расширение НАТО к границам России, война в Косово и война в Ираке — все это были совершенно лишние промахи, усугубленные «наивностью и расточительностью» конфликта в Афганистане. США в итоге пришлось потратить почти вдвое больше времени на военные действия, чем в период холодной войны. Эти авантюры дорого стоили. В реальном выражении к 2ою году стоимость войны в одном Ираке в два раза превысила стоимость Корейской войны и оказалась даже выше расходов на вьетнамскую войну, причем плохо организованные иракские повстанцы нанесли пропорционально больше ущерба американским войскам, если считать по количеству жертв среди армейского состава, чем хорошо организованные воинские подразделения вьетнамского народа. Огромные суммы, которые могли бы инвестироваться в снижение долговой нагрузки или же в инфраструктурные проекты, были пущены по ветру [157: 25-26, 49-50, 58-59, 67].
И каков же результат? Попытка построить работоспособную мультиэтническую демократию на Большом Ближнем Востоке провалилась. В Афганистане не удалось создать сильное центральное правительство. Ирак впал в хронический кризис политического насилия. Проигнорировав уроки своей собственной Гражданской войны, США поступили так, словно бы национальные, этнические или религиозные идентичности не являлись препятствием для навязывания гегемонической воли Америки другим народам. Вера в современное высокотехнологичное оружие породила иллюзию, будто «военная сила — это скальпель, которым можно сделать гонкий надрез на больном политическом теле», тогда как на самом деле «она остается дубиной, которая в лучшем случае позволяет добиться озлобленной покорности из-под палки, а в худшем — временного смягчения симптомов» [157: xiii]. Рациональная большая стратегия покончила бы со всем этим, сократив военные расходы наполовину и сосредоточив их на контроле водных пространств, воздуха и космоса, в соответствии с курсом просчитанной сдержанности. Но на это вряд ли можно надеяться в ближайшем будущем; если только не случится каких-то значительных экономических потрясений. «Американская большая стратегия находится в руках крайне самоуверенной национальной элиты служб безопасности, имеющей глобальные амбиции и постоянно самовоспроизводящейся», щедро снабжаемой разведывательными и техническими ресурсами, причем включающей в себя представителей как республиканской, так и демократической партий. «Отказаться от проекта либеральной гегемонии будет непросто» [157: 173].
За более чем два тысячелетия термин «гегемония» не раз менял смысл и место пребывания. Если говорить о географии, «гегемония», возникнув в античной Греции, посетила в разных обличьях парламентскую Германию, царистскую Россию, фашистскую Италию, Францию времен Антанты, Америку холодной войны, неолиберальную Англию, реставрировавшую монархию Испании, постколониальную Индию, феодальную Японию, революционный Китай, чтобы потом снова вернуться в Британию, уже отошедшую на вторые роли, в Германию, все более укрепляющуюся, и в США при однополярной системе. В политическом плане ее теоретиками в разные времена и в разных местах были либералы, консерваторы, социалисты, коммунисты, популисты, защитники реакции с одной стороны, герои революции — с другой. Но это не была какая-то хаотичная история, в которой смыслы никак не связаны друг с другом и полностью меняются при переходе от одного пространственного или идеологического пункта к другому. В ней вырисовывается довольно ясная схема. С самого начала в коннотациях, скрывающихся в понятии «гегемония», было определенное противоречие. Лидерство в союзе, каково оно — политическое или военное? Ведомые — подданные или союзники? Каковы узы между ними — добровольные или вынужденные? Каждая следующая форма, в которой являлась гегемония, содержала в себе данную двусмысленность, хотя часто — но не всегда — люди, использовавшие это понятие, пытались эту двусмысленность устранить. Если бы гегемония была просто культурным авторитетом или принудительной властью, само ее понятие было бы излишним: и у того, и у другого есть много более очевидных наименований. Ее сохранение в качестве термина обусловлено тем, что в ней сочетаются оба значения, причем существует целый спектр их возможных сочетаний. Традиционно она всегда предполагала нечто большее простой силы.
Этот избыток часто отделяли от целого, словно бы он исчерпывает ее значение. Причину легко понять. В любую эпоху язык политики склонен к порождению эвфемизмов, поскольку власть — искомая или приобретенная — не желает открыто показывать себя. Гегемония, сведенная к определенной форме консенсуса, может способствовать решению этой задачи, хотя сохраняющееся ощущение того, что она может включать в себя и другое значение, способно навлечь на нее подозрение, о чем свидетельствуют колебания и оговорки, отметившие собой ее рецепцию в США [13-2].
Сопряжение разных аспектов гегемонии — редкий случай, причем относительно недавний. Традиционно, да и сейчас в основном тоже, истории применения термина «гегемония» в отношении внутригосударственных и межгосударственных вопросов существовали порознь, поскольку второе значение структурно больше склоняет к ее трактовке в регистре принуждения, а не убеждения, что объясняется отсутствием какой-либо общепризнанной власти в отношениях между странами, если не упоминать благопристойных фикций того, что считается международным правом, соблюдаемым только тогда, когда это выгодно. Транснациональный аспект гегемонии, в сравнении с двумя другими в наибольшей степени осуществляемый через культуру, остается самым неисследованным, и го же самое можно сказать о том, как он сопряжен с двумя другими аспектами и как от них зависит. В основании сложной системы, которую они образуют, лежат национальные гегемонии, как их понимал Грамши, то есть область, где согласие и принуждение обычно находятся друг с другом в устойчивом равновесии, тогда как на уровнях выше обычно преобладает либо то, либо другое.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
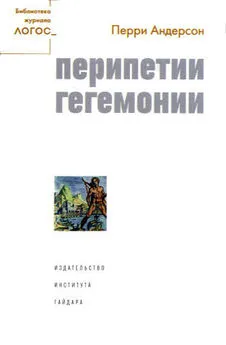

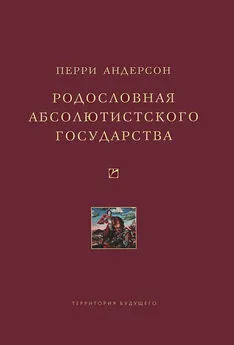
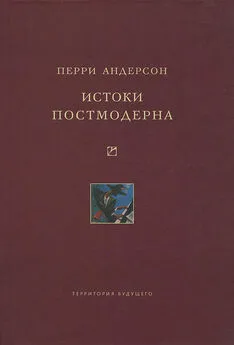
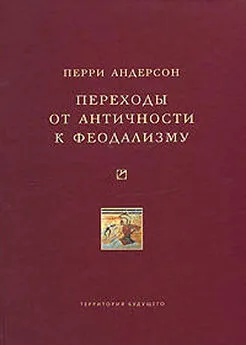
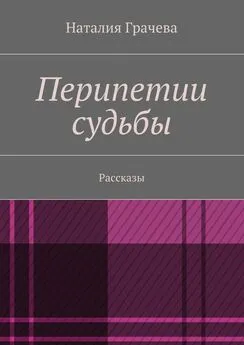

![Диана Гэблдон - Написано кровью моего сердца. Книга 1. Перипетии судьбы [litres]](/books/1084788/diana-gebldon-napisano-krovyu-moego-serdca-kniga.webp)