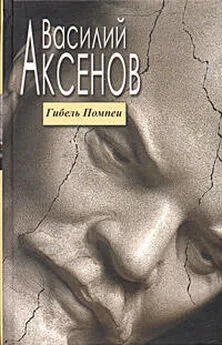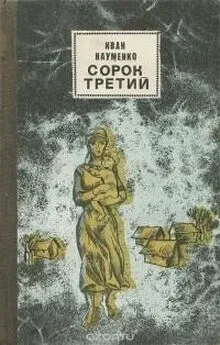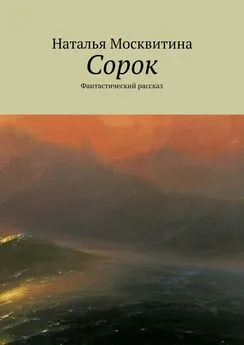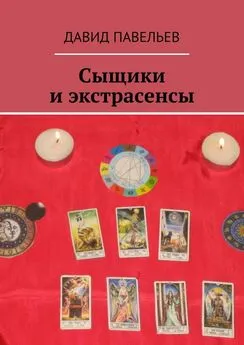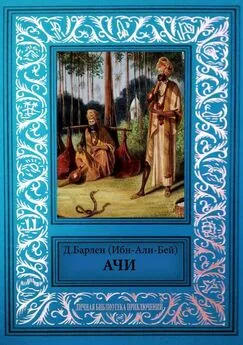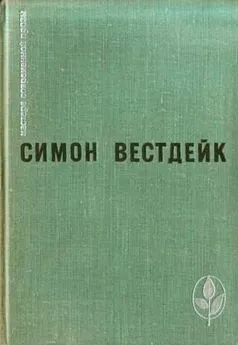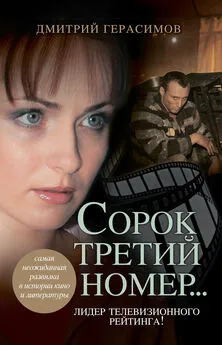Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Название:Сорок третий. Рассказ-хроника.
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Политиздат.
- Год:1991
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Давид Ортенберг - Сорок третий. Рассказ-хроника. краткое содержание
/i/46/671646/Cover.jpg
Сорок третий. Рассказ-хроника. - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Ныне могу признаться, что так я думал по наивности, не понимая, что за человек был Сталин, не знал многое, очень многое из того, что открылось после XX съезда партии и особенно в наше время. Сколько и в годы войны послал Сталин людей в тюрьмы, лагеря, на эшафот! Если даже он считал, что они в чем-то виноваты, он мог дать им возможность, как тогда говорили, своей кровью искупить на фронте вину, хотя, как известно, это были люди безвинные. Но кровожадность узурпатора была настолько сильна, что он и этого не захотел. В ту пору мы еще верили ему, да и считали, что идет война и о ней надо думать прежде всего.
Однако вернусь к платоновской «Обороне Семидворья». Это рассказ не столько о тактике боя, сколько о душевном мире воина, его думах, переживаниях в минуты и часы горячего боя. «Слово Платонова, — писала критик Инна Борисова, — сверхплотно, но при этом оно не натужно, не тяжеловесно, а очень легко и внезапно. Эти неожиданные дали, открывающиеся в быстром и новом соединении самых обыденных слов, часто делают фразу Платонова столь же законченной и самостоятельной, как целое произведение». Именно таким языком и написана «Оборона Семидворья».
Вот этот феномен платоновского слова и послужил поводом для выступления «Правды». Но на сей раз пронесло. Наверху молчат. Вскоре мы опубликовали новый очерк Платонова — тоже молчат. Словом, сошло!
Все же главный критик литературы — народ, наши воины. В том же году очерки Платонова, опубликованные в «Красной звезде», вышли небольшой книжечкой под названием «Одухотворенные люди». О том, как их встретили на фронте, свидетельствует литератор Э. Подаревский в статье, опубликованной в 1943 году в газете «Литература и искусство»:
«Началось в теплушке шедшего на фронт эшелона. Ездили в ней лыжники, замечательный народ, все, как один, добровольно вступившие в лыжный батальон. На долгой стоянке зашел я к автоматчикам. Посидели, попили чайку, поговорили — о фронте, о море, о книгах. И вечный жадный вопрос: «Почитать нет ли чего, товарищ лейтенант?»
У меня с собой книжечка Андрея Платонова «Одухотворенные люди». Засветили коптилку и стали читать. В середине чтения я ушел — книжка осталась у автоматчиков. «Не уносите, товарищ лейтеналт, дочитаем — отдадим. Очень интересная». На другой день не отдали. Оказалось, когда читали автоматчики, услыхали краем уха минометчики, выпросили себе. От минометчиков — к стрелкам, от стрелков — к хозвзводу, санитарам, саперам — пока до фронта доехали, книжка ходила и ходила по рукам. Недавно книжка вернулась ко мне в полевую сумку, зачитанная до дыр…
Сержант, возвративший ее мне, сказал: «Хорошая книжка. Очень понравилась, потому и не отдавали долго. Всем понравилась — и тем, кто вроде меня, сам на фронте побывал, и тем, кто впервые едет… Вот только удивительно, откуда он, писатель, все, что они там на позициях делали и о чем думали, — откуда он все это так доподлинно знает?»
Не знаю, объяснил ли лейтенант, откуда Платонов все это знает. Но нам доподлинно известно — он почти все дни на фронте, в землянках, окопах, блиндажах, на «передке», рядом с солдатами…
На той же полосе «Красной звезды», где опубликован очерк Платонова, помещено интервью нашего спецкора Якова Милецкого с командиром недавно сформированной из французских добровольцев эскадрильи «Нормандия» Жаном Тюланом. Корреспондент рассказывает:
Майор Жан Тюлан сидел за раскладным столиком. В форме французского летчика — короткой темно-синей куртке спортивного покроя — он казался моложе своих тридцати лет. Внешний вид майора типичен для летчика-истребителя: он небольшого роста, стройный, легкий и быстрый в движениях. Жан Тюлан приехал к нам, уже обладая боевым опытом. Он участвовал в ливийской кампании и однажды на своем истребителе заставил приземлиться вражеский санитарный самолет. Ко всеобщему удивлению, в этом самолете оказались шесть совершенно здоровых итальянских генералов, пытавшихся улизнуть от союзных войск. О боевом опыте майора говорят и три орденских ленточки на его куртке.
Эскадрилья организована недавно, но уже уничтожила шесть немецких самолетов. На аэродромах противника она уничтожила еще шесть одноместных и два двухмоторных самолета. Что ж, для начала неплохо, хотя летчики мечтают о большем. Оно будет! Будет полк. Будут французские летчики — Герои Советского Союза!
Наши летчики прекрасно отзываются о французах. Они уважительно говорят:
— Умеют ребята воевать. Красиво работают…
Также уважительно говорят и о наших летчиках французы:
— Русские знают свое дело. Серьезная работа.
— Бравые люди эти русские летчики.
Все, что рассказал майор Жан Тюлан, было опубликовано в газете. Вот только его имя мы не смогли назвать. Во Франции осталась семья Тюлана, и нам пришлось ограничиться его инициалами…
Юрий Либединский вслед за сталинградским очерком сдал еще один: «Казачья дочь». Начинается он так:
«По станицам захваченного немцами Термосинского района шла слава об Ане Обрывкиной, неуловимой партизанской разведчице…» А далее — рассказ о ее подвиге. До войны — секретарь комсомольской организации станицы Нижне-Гнутовской. Сирота, она не помнила матери. В первые же дни, когда немцы захватили станицу, она вступила в партизанский отряд. В один из поздних осенних дней сорок второго года, когда Аня пришла в родную станицу, ее схватили немцы. Свидетели ее мучений рассказывали:
— На рассвете ее кинули в общую камеру. Она была почти без сознания. Волосы ее стали темны и влажны от крови. Когда она пришла в себя, говорить с ней было трудно, она почти оглохла от побоев, кашляла кровью. Немцы ее уговаривали: «Тебе девятнадцать лет, тебе жить хочется, скажи, где партизаны, мы наградим и отпустим тебя. Никто ничего не будет знать…» Ее били и пытали всю ночь.
Назавтра люди увидели ее. Она была на себя не похожа. Она не шла, а тащилась по земле. Плакали взрослые, молчали дети. В студеный день без обуви, в окровавленных чулках фашисты гнали ее Термосиным и хутором Захаровским по оврагам, рощам, по тем местам, где, чуяли немецкие ищейки, должны были проходить партизанские тропы, кричали ей по-немецки и по-русски: «Скажи, укажи, где партизаны?» Но молчала донская земля — ничего не говорила казацкая дочь Анна Обрывкина. Снова ее мучили и били. Но не выдала героиня своих. Только сестра ее, которая неотступно шла по ее кровавому следу, слышала, как она стонала: «Мама… мама…»
И писательское, щемящее душу объяснение: «Осиротев в раннем детстве, Аня никого не называла мамой. Но так велики были ее мучения, что они исторгли из ее души это заветное слово».
Муки ее кончились возле хутора Захаровского. Там враги признали себя побежденными, там они застрелили Аню. И так велика была злоба немцев против девушки, которую они не смогли победить, что с ней и мертвой сводили свои счеты, запретив ее похоронить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: