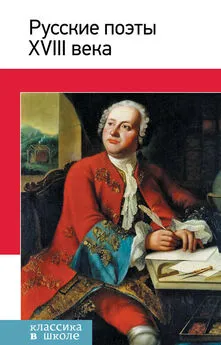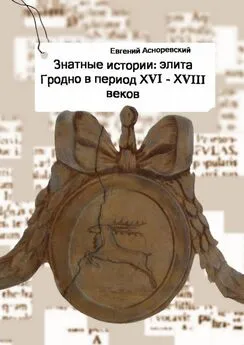Евгений Анисимов - Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке
- Название:Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:5-86793-076-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Анисимов - Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке краткое содержание
Дыба и кнут. Политический сыск и русское общество в XVIII веке - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
В первом ряду соискателей нетерпеливо переминался доносчик — награду ему обещали царскими указами. Но не тут-то было! Дьячок Василий Федоров, донесший в 1724 г. на волоколамского помещика отставного капрала Василия Кобылина, очень рассчитывал на большую награду донос он «довел», и Кобылина казнили за «непристойные слова» о царе и царице. Вначале Федоров получил из отписного в казну имущества преступника корову, сено, несколько пар гусей и кур, но он мечтал о большем — хотел стать помещиком, получить «во владенье того злодея огписную деревню».
Только в 1727 г. Федорову при содействии А.Д. Меншикова удалось добыть указ Сената, по которому за ним закрепляли право на владение этой деревней, однако одобрение этого указа в Верховном тайном совете застопорилось. Через год бумаги вернулись в Сенат и там уже окончательно застряли. В челобитной 1729 г. дьячок пишет, что его главными недоброжелателями являются сенатские чиновники, и прежде всего обер-секретарь Анисим Маслов, который в ответ на просьбы дьячка якобы сказал: «Тебе ль уж, дьячку, деревнями владеть?» — и, как пишет Федоров, «уграживал мне кнутом, чего ради и караульные сержанты в Верховный тайный совет к подьячим не допускают, знатно, по его ж, Маслову, приказу». Федоров считал, что Маслов хочет его «от помянутой Кобылина отписной деревни оттеснить» и что между вдовой Кобылина Мариной, секретарем Преображенского приказа Василием Казариновым и Масловым заключена тайная сделка: Марина Кобылина подала в Преображенское челобитную, в которой писала, что она якобы с малолетним сыном Григорием «скитается меж двор и помирает голодною смертью», и просила дать ей «на пропитание» отписную деревню. Челобитье вдовы удовлетворили в 1727 г., и указ об этом пришел из Преображенского в Волоколамскую уездную канцелярию.
Такая льгота вдове государственного преступника действительно вызывает удивление — если жены и получали что-либо из отписного, то только собственные приданые деревни. В 1719 г. теща казненного Степана Глебова Пелагея Васильева просила Петра I, чтобы он отдал вдове Глебова Татьяне из отписанных у Глебова деревень те, которыми она, Васильева, «поступилась» некогда Глебову. При этом теща подчеркивала, что бывший ее зять жену свою Татьяну «не любил и хотел с нею розвестись». Для передачи этих деревень Татьяне Глебовой потребовался именной указ, который она в конце концов и получила (9–1, 56–57). В деле же вдовы Кобылина все было иначе. Как пишет дьячок, челобитье Марины Кобылиной — сплошная ложь: к моменту подачи жалобы в 1727 г. сын ее Григорий уже умер, да и не скиталась она «меж двор», потому что вскоре вышла замуж. Как только она получила от знавшего все эта обстоятельства Казаринова указ на владение деревней, то тотчас продала крепостных людей из нее капитану Михаилу Маслову — родному брату обер-секретаря, а землю поместья — его же двоюродному брату Максиму Прокофьеву. Всю эту сделку одобрил — «покрыл» — воевода Волоколамска Иван Козлов, который, как выяснил дьячок, приходился Масловым родным дядей! Так что рисковавший жизнью дьячок-доносчик оказался в момент раздела имущества казненного по его извету человека совсем лишним и должен был удовольствоваться только коровой и курами (277, 22–25).
Думаю, что дьячок присочинил от себя немного, примерно такой же механизм раздела отписных деревень с личным участием кабинет-секретаря А.В. Макарова, других высокопоставленных чиновников и их родственников подробно описан в подброшенном в конце 1724 г. подметном письме на имя Петра I (677, 150–158). Есть сведения о махинациях с отписными вотчинами и в делах сыска. Генерап-фискап А. Нестеров в 1718 г. писал царю, что он знает, как дьяки Поместного приказа, «преступая В.в. имянной указ, роздали собою без указу по своим пометам выморочный земли и деревни, в чем от меня обличены за что им В.в. и указ учинен и те деревни в розных уездех ис тех их роздачь взяты и отписаны по-прежнему на Вас… а ныне я, раб Ваш, усердием моим проведал и усмотрил в Поместном приказе выморочныя же деревни». На этом основании Нестеров просил «найденные» им вотчины отдать ему (9–9, 1) .
Все, что получали при разделах владений государственного преступника высокопоставленные приказные вроде Маслова, Макарова и им подобных, можно считать мелочью, крохами со стола господ. А именно «набольшие господа» получали из отписанных владений самые жирные куски. Первыми челобитчиками, просившими якобы присмотренные ими «деревенишки», обычно были следователи, которые вели дело и ведали отпиской имущества в казну. П.А. Толстой, А.И. Ушаков, А.И. Румянцев получили согни крестьян и лучшие деревни опальных В.В.Долгорукого, Александра Кикина и других преступников по делу царевича Алексея. О пожаловании следователей отписным царь в начале 1719 г. подписал особый указ (633-11, 377–379). Первый биограф Толстого Виллардо не без оснований писал в своей книге, что его герой как раз и обогатился за счет конфискаций по делу царевича Алексея (186, 25). Петр I не раз, присутствуя в Тайной канцелярии и в других учреждениях, работал над списками отписного и распоряжался, кому что дать, подписывал указы по прошениям разных людей об отдаче им конфискованных в Петербурге и Москве домов, земель и вещей (752, 575-57; 633-11, 295 296). По челобитным просителей видно, что бедные челобитчики просили из имущества преступников немного, зато влиятельные люди стремились оторвать кус покрупнее. По делу царевича Алексея следователи П.А. Толстой, Г. Г. Скорняков-Писарев, А.И. Ушаков получили самые лучшие земли, приказные Тайной канцелярии получили дворы опальных чиновников. Среди пожалованных из отписного мы видим служителя дома Петра I Афанасия Татищева (он получил дом Александра Кикина и некоторые его вещи). Еще один служитель, Василий Олсуфьев, овладел с разрешения царя отписным московским двором. Заимел отписной «дворишко» даже камер-паж Екатерины Семен Маврин. Кормилииа-«мама» царской семьи Авдотья Ильина выпросила себе «дворовое приморское место» царевны Марии Алексеевны, а любимый царем корабельный мастер Филипп Пальчиков получил неплохую «деревеньку». Царь оказался великодушен даже к подавшей челобитную любовнице ссыльного В. В. Долгорукого и указал дать «бывшей метре-се Софье Ивановой дочери денег» (9–1, 17–39, 54, 68; 102а, 199). Такой раздел земель, имущества, «людишек» происходил после каждого политического дела, идет ли речь об опале Долгоруких или Волынского (304, 170).
Из политических дел следует, что конфискованные имения являются разменной монетой, призом, который хватает каждый, кто оказался в этот момент поближе к власти. В ноябре 1727 г. Петр II предписал вернул. Лопухиным отобранные у них по делу царевича Алексея в 1718 г. владения. До этого они были у П.А. Толстого, после ссылки его весной 1727 г. их взял себе секретарь и приживальщик А.Д. Меншикова Андрей Яковлев, у которого после крушения Меншикова осенью 1727 г. деревни Лопухиных также отобрали (633-69, 7 29). Но вряд ли Лопухины подали бы челобитье о «повороте» своих владений, если бы к власти не пришел Петр II — внук Евдокии Лопухиной, если бы Меншиков был «в силе» или земли после Яковлева прибрал бы влиятельный вельможа с устойчивым положением при дворе.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: