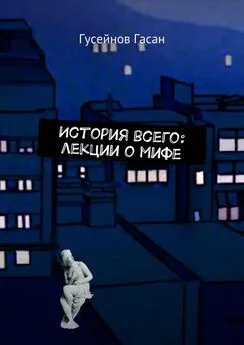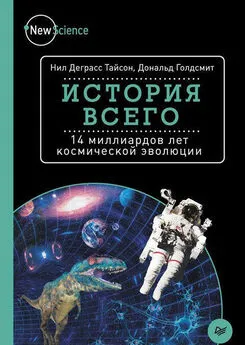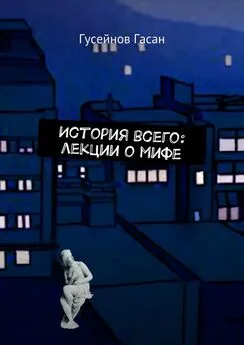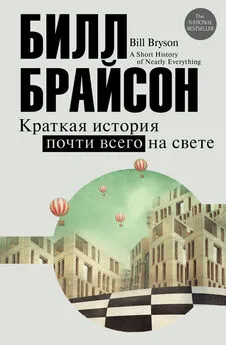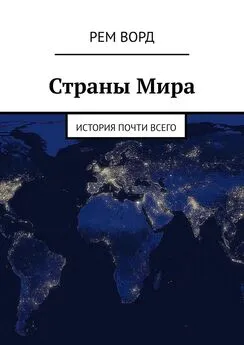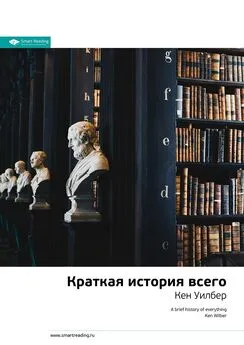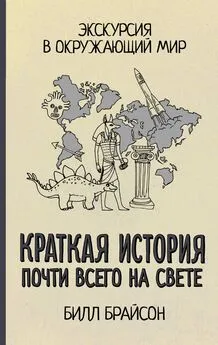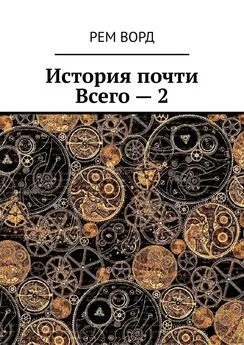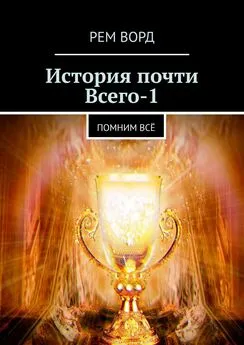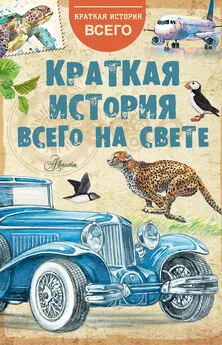Гасан Гусейнов - История всего: лекции о мифе
- Название:История всего: лекции о мифе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2016
- ISBN:978-5-4483-4105-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гасан Гусейнов - История всего: лекции о мифе краткое содержание
История всего: лекции о мифе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Стан.: Это распространенная метафора «неполной свободы»?
Г. Ч. Г.: Да, и этот миф повторяется. Другого героя, Аякса, подержал в своей львиной шкуре Геракл, но сделал того неуязвимым только частично: в шкуре лежал колчан, поэтому подмышки и несколько позвонков остались вполне уязвимыми.
Стан.: И как это надо толковать?
Г. Ч. Г.: А так, что есть мечта, и вот-вот, еще мгновение — и твой подзащитный станет совсем таким же, как сами боги.
Стан.: И никогда-никогда не удается?
Г. Ч. Г.: Даже когда удается, оказывается, что полная неуязвимость, как и полная свобода, недосягаемы. Вот, например, миф о Кенее. Он сначала был женщиной, и звали ее Кенидой, она сошлась с Посейдоном, который был известен своей, так сказать, импульсивностью. И когда он захотел чем-то расплатиться за этот краткосрочный союз, Кенида придумала такую штуку. Она попросила, чтобы Посейдон сделал из нее неуязвимого мужчину.
Стан.: «Гусарская баллада» какая-то, только в другую сторону.
Г. Ч. Г.: Ну да, он все так и сделал, как она просила. И вот Кенида стала неуязвимым Кенеем. Металлические стрелы отскакивали от него, не причиняя ни малейшего вреда. А надо сказать, что Кеней этот был лапифом…
Стан.: Стало быть, враждовал с кентаврами? Я все-таки не очень пойму, к чему вы клоните.
Г. Ч. Г.: Да к тому, что и против могучего и неуязвимого нашлось оружие! Кентавры завалили его стволами елей и подожгли, так что Кеней просто задохнулся в дыму. Если оставить в стороне все детали этого повествования, то получается такое толкование: проявления субстанциальной несвободы, или неизбежности смерти, невозможно ни предусмотреть, ни, тем более, преодолеть.
Стан.: А есть для этого у греков какая-то своя, как вы любите говорить, общезначимая теория?
Г. Ч. Г.: Есть! Эта теория — миф. Миф как форма знания, откуда что взялось. Вместо абстрактной свободы — конкретная вариативность. Вот, по одной версии Кенея убили, завалив лапником и подпалив его, а по другой — забив бедного в землю.
Стан.: Да, я помню, кентавров иногда изображают с деревцами в крепких руках.
Г. Ч. Г.: Да-да, это как раз следы этого вот представления.
Стан.: Т.е. свобода понимается как свобода выбора между двумя способами исполнить неизбежное…
Г. Ч. Г.: Совершенно верно! И формулу «свобода это осознанная необходимость» можно уточнить именно так — это выбор на развилке дорог, каждая из которых приведет…
Стан.: …в Рим!
Г. Ч. Г.: Да, в «старость, это Рим, который…
Стан.: … взамен турусов и колес…
Г. Ч. Г.: не читки требует с актера…
Стан.: а полной гибели всерьез!»
Г. Ч. Г.: Вот мы тут и художественную самодеятельность замутили. А ведь нам достаточно было бы просто спросить себя, а почему в греческом пантеоне нет божества свободы?
Стан.: И как бы вы ответили на этот вопрос?
Г. Ч. Г.: Да потому что свобода проявляется и в космосе, и в истории, и в жизни только как искра, огонь, мимолетность. Она не субстанциальна, а акцидентальна. Греческие боги — тоже, кстати, воплощение свободы мысли! — даже завидуют людям своей знаменитой «завистью богов». Ведь у людей есть страсть к свободе, дух свободы, желание пойти наперекор судьбе, а боги — заложники своего бессмертного статуса.
Стан.: Прометей, Эдип, Одиссей…
Г. Ч. Г.: Да, они все как бы взламывают предложенный ход вещей. Но их стремление к свободе чистосердечно. Боги понимают, что сам ход вещей измениться не может, но их согласия на это нет.
Стан.: Значит, ничтожные люди все-таки выступают против богов и судьбы?
Г. Ч. Г.: Да нет, тут есть своя загвоздка в том, что Прометей — титан, т.е. дядя Зевса, и поэтому говорить, что тут какая-то богоборческая составляющая есть, все-таки не приходится. Интересно, пожалуй, что идея освобождения человечества символически представлена огнем. Огонь, который Прометей украл и доставил людям, это и есть предметный субститут свободы. Огненная, т.е. гасимая природа свободы, осознается и в мифе, и в обыденной жизни, и в последующие эпохи. Когда Фет, может быть, в величайшем из своих стихотворений, пишет
Не жизни жаль с томительным дыханьем,
Что жизнь и смерть? А жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем,
И в ночь идет, и плачет, уходя 69, —
Фет и говорит об этой самой акциденции свободы и любви, которую можно превратить в субстанцию только путем слишком утонченной эквилибристики, которой потом злоупотребят идеологи веры в «спасение», «бессмертие души» и прочие красивые, но не доказуемые вещи.
Стан.: Иначе говоря, тот, кто говорит, что свобода субстанциальна, по-вашему, шарлатан?
Г. Ч. Г.: Да, такой человек, как теперь говорят, «по-любому», шарлатан и шулер. Потому что делать вид, что логическая возможность, или образ, порождаемый нашим сознанием, непременно должна иметь и имеет доступное нам физическое, или телесное, воплощение, значит водить и себя и других за нос. И не только с точки зрения греческой мифологии, но и с точки зрения современного естественнонаучного знания. Потому что свобода как предмет знания — это только акциденция, т.е. случайно возникающая и тут же исчезающая, эпизодически показывающая нам свою рожицу и вызывающая бурные страсти и не поддающаяся фиксации вещь.
Стан.: Но — вещь?
Г. Ч. Г.: Не настоящая вещь, а продукт работы ума. Как кентавр, который родился от союза Иксиона и куклы Геры, как Минотавр, которого родила Пасифая от быка. Виртуальная вещь. Фантом. Который логически необходим, но физически, в том виде, в котором его создает наше воображение, невозможен.
Стан.: Иначе говоря, свобода как субстанция — это предмет веры?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. Бог и свобода как предметы веры существуют. Но попытки навязать их обществу как субстанцию, вручить их слабым людям как палку, которой они колотят по голове тех, кто с ними не согласен, как святотатцев, такие попытки очень скоро приводят к кровопролитию. Мракобесие — это как раз следствие неразличения субстанциального и акцидентального.
Стан.: Правильно я понимаю, что логическое присутствие свободы и божественного вы не отрицаете?
Г. Ч. Г.: Ну конечно, их и невозможно отрицать. Без них немыслим сам акт сознания. Но мы ничего не знаем о природе самого этого сознания. Отсюда необходимость постоянно примысливать к наблюдаемому не наблюдаемое, умозрительное. Помните миф о Мидасе?
Стан.: Который все превращал в золото и не мог из-за этого ни пить, ни есть?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. Он хотел беспредельной свободы…
Стан.: «Все куплю! сказало Злато…» 70
Г. Ч. Г.: Да-да, именно! А сам чуть не умер, став рабом своей жадности. Зевс его освободил от этого несчастья, велев окунуться в реку Пактол. Мидас избавился от своей напасти, а в Пактоле до сих пор золотой песок наблюдается.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: