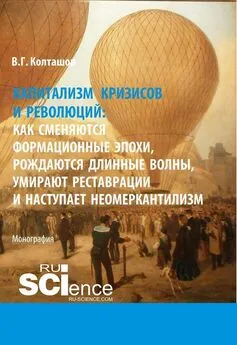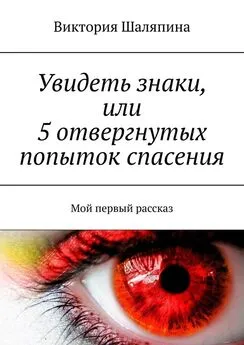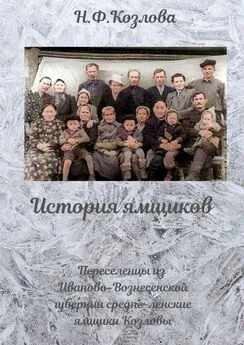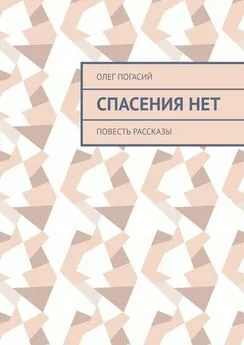Савелий Ямщиков - Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства)
- Название:Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства)
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Просвещение
- Год:1986
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Савелий Ямщиков - Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства) краткое содержание
Спасенная красота (рассказы о реставрации памятников искусства) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Конечно, он хороший живописец, но странные его холсты с невнятным сюжетом кажутся веселыми предутренними снами, с идеей, которую мы заспали и теперь не можем восстановить. Его глиняные мужики и бабы с котами и курами не наглядны, но каждая фигурка порознь выдает, что она обломок какого-то таинственного целого. Его сказки, кажется, начались до текста и кончаются за ним и в их паузах зияет ожидание голоса рассказчика, жеста, показа. Пьесы лишены обыкновенных постановочных ремарок, словно сочиняются перед нами и сцена открыта глазам — довольно только слушать. Роман избегает пейзажа и портрета, предполагая, что и то и другое скажется другими — не словесными — средствами.
Как живет, например, его «Город Всеобщего Благоденствия»? Это огромный темный холст, заселенный сотней персонажей, небывалой архитектурой, словно она переведена на ярмарочный деревенский язык с листов безумного Пиранези. Что значит это ликующее собрание чудес и это простодушное изобилие, сказавшееся лишь в величине пирогов, эти галереи с юными зрителями, эти задорные пугала на палках и веселая нечисть, эти белые птицы? Кто эти мальчики с флейтами и босиком, и старики, одетые с предусмотрительной демисезонностью — хоть в лето, хоть в зиму? Почему все это движение никуда не направлено, а словно замерзло по слову незримого режиссера для памятной фотографии?
Когда перед нами был только холст, вопросы так и остались бы без ответа, но у нас есть глина и есть сказки, есть дневники и письма, есть роман и рассказы современников. И оглядев весь этот свод материалов, мы изумленно останавливаемся перед широко разветвившейся человеческой мыслью.
Честняков начинал и заканчивал свой мир в Шаблове. Здесь была колыбель и здесь был для него зенит культуры. Этот его «Город» прорастал исподволь из сказок бабушки, находившей в своем доме место пестрому населению русской деревенской мифологии — всем этим кикиморам, домоведушкам и хвостолюшкам, без которых дом не стоял, как у римлян, не стоял он без ларей. «Город» потом брезжил в училище, в Петербурге, среди неумолчных споров о гибели и возрождении деревни. И вот теперь в Шаблове он обретал, наконец, реальные черты, когда из глины явились первые жители и сели на первую глиняную скамью с первой глиняной кошкой, чтобы потом уйти на первый план холста и получить имена и стать одновременно героями сказок. Так что когда-нибудь, расшифровав все бумаги художника, мы узнаем, как зовут каждого из 120 стариков, юношей и младенцев, населяющих это видение, ибо имена эти есть.
Может быть, ближе всего это было к театру, который так любил Честняков и на который как на средство пропаганды своих идей так надеялся. Он и помещение для него построил с помощью мужиков из двух старых изб, но что это был за театр и что за представления? Его главными зрителями были дети, хотя автор втайне ждал взрослых, чтобы вместе, миром претворить прозрения одного в реальности всех. Он вывешивал перед зрителем тот или иной холст, и он делался одновременно декорацией, героем и хором в античном разумении, а глиняные фигуры под мерный сказ автора ходили, говорили, мечтали, спорили, смеялись и плакали, оглядываясь на свои отражения на холсте, и в пьесе это-то и делало идею стереоскопической, тем более что действие совершалось не в иллюзорном тридевятом царстве, а тут же, в Шаблове, и имена все слушателям были знакомые, деревенские, и места — родные, так что скоро зрители честняковских мистерий переставали различать, где кончается волшба этого неясного, непостижимого человека и начинается родная деревенская улица. Сказочные ситуации серьезнели в пьесах, а в романе и вовсе обретали фантастическое правдоподобие.
Честняков догадался о том, о чем догадываются единицы: в мире в сущности нет выдумки, воображение — та же реальность, разве только не совпадающая с действительностью во времени. У него есть высокие слова: «Гляди вперед и покажи свои грезы... и по красоте твоих грез ты займешь свое место...» Он торопился воплотить свои грезы во всех материях сразу — в краске, глине, слове, музыке, жесте, теории, чтобы осязательность не дала человеку уклониться от будущего, скрыться в привычный мир быта. Это был театр прозрения, обещания, театр небывалого синтеза такой простой по форме, что его не узнали в лицо и сочли кто комментарием к картинам, кто детским развлечением. А сейчас мировой театр ищет подобные формы реализации грез и, не ведая о предшественнике, приходит к честняковской идее.
В Соединенных Штатах работает сейчас театр «Брэд энд паппет» («Хлеб и кукла»), и когда я читал о его принципах, то видел отзывную улыбку Честнякова: «Спектакль совмещает в себе танец, скульптуру, кукольное представление, музыку, миф и ритуальное действо», а о режиссере было сказано, что «он вообще не ставит спектаклей», и знавшему принцип театра Честнякова без объяснения было ясно, что за этим разумелось. Существенная разница только в том, что американский театр включает миф, а Честняков творит этот миф в процессе спектакля.
Как смотрели на театр крепкие шабловские мужики, пожалуй, понятно — традиция воспитания и здравый смысл давали им право на снисходительную небрежность. А дети? Что ж дети!.. Им это было по сердцу, но — не по уму. Если воспользоваться словами одной его мудрой сказки, можно сказать, что дети поняли только то, «что он не виноват, а взрослые все отвернулись от него. И тогда он удалился от людей». Истомленный нуждой, оставшийся без красок, без необходимых контактов, но зато тайно уверенный в силе и действенности сделанного им и в важности его преобразующей просветительской идеи, он снова едет в Петербург.
Пышный 1913 год. Кичится благополучием, восславляется в дорогих альбомах, готовится к празднованию 300-летия царствующей династии. Честняков возвращается в Академию, в мастерскую Кардовского, чтобы поправить свою, как, может быть, ему кажется, слишком свободную руку. Но приехал он, конечно, не за тем, чтобы сидеть с талантливыми мальчиками над штудиями гипсов и обнаженной натуры.
Он привез с собой холсты, тетради, глинянки и теперь время от времени надевал через плечо большую коробку и шел от дома к дому со своей бесприютной идеей, как странствующие мыслители Византии, аскеты Индии, русские калики. Он раскладывал и развешивал принесенное и в сотый раз начинал свою единственную сказку о родной деревне: «Кирпичною стеною деревню обнесли и на столбах кирпичных крышу утвердили, изобрели материю прозрачнее стекла, так что ее мы можем свертывать и в свитки подобно полотну. Похоже как у древних египтян. И вот покрыли всю деревню тканью этой чудесной». И следом за своим героем Марко Бесчастным развивал мысль о вечном цветении садов под искусственным небом. В некоторых изданиях попадается Марко Бессчастный. Это неверно в самой сути, ибо употребляя одно с , Честняков не ошибался в правописании и разумел не несчастного героя, а пророка без частной собственности и без частного дробного восприятия мира во имя синтетической свободы. Если художника, как его героя, с улыбкой спрашивали об аэропланах в его грядущей деревне, он спокойно отвечал, что «есть грузовые, есть и для людей, почти летучие дома, есть одиночки и очень легкие складные перелетки, чтоб за реку перелетать на небольшие расстоянья... Над домом нашим не простая крыша: с перилами, с платформой. Она обширна, будто поле, и служит для отлета и прилета... Мы подошли к эпохе сообщений в воздушном океане, и города приморские терять свое значенье скоро будут, и новые возникнут города на континенте, безотносительно к тому: далеко ли они от моря».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
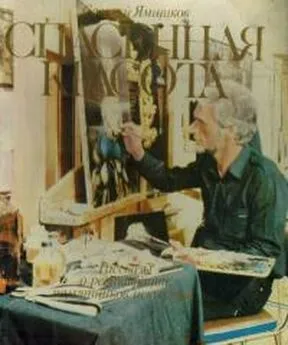

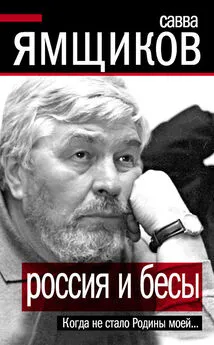
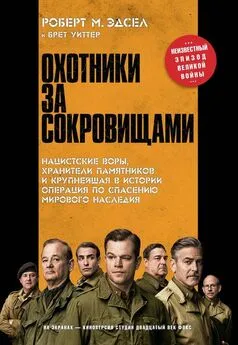
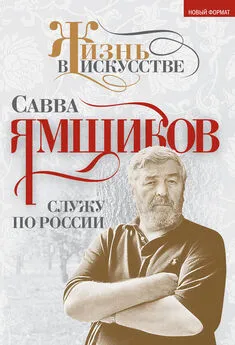
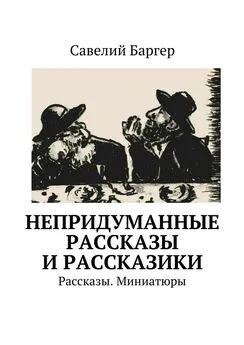
![Георгий Юдин - Спасенная душа [Рассказы. Сказки. Притчи]](/books/1059817/georgij-yudin-spasennaya-dusha-rasskazy-skazki-pri.webp)