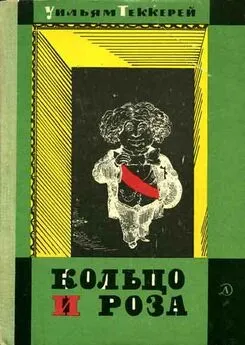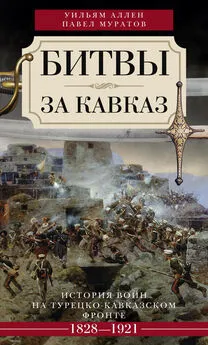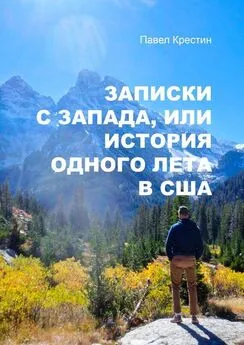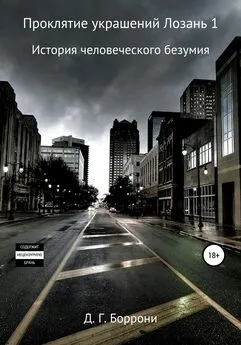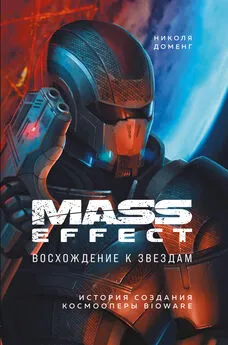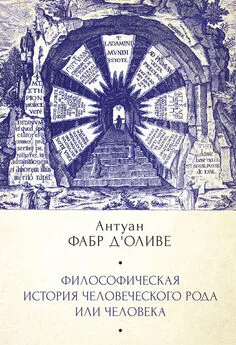Уильям Макнилл - Восхождение Запада. История человеческого сообщества
- Название:Восхождение Запада. История человеческого сообщества
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2004
- Город:К., м.
- ISBN:966-521-296-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Уильям Макнилл - Восхождение Запада. История человеческого сообщества краткое содержание
Восхождение Запада. История человеческого сообщества - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
969
Для движения Саади главным стимулом была священная война против португальского и испанского вторжения на Африканское побережье, и тут не требовалось побуждения со стороны Сефевидов. Тем не менее, с точки зрения Османской империи, одновременное возникновение сильных шиитских государств на Востоке и на Западе в момент, когда сторонники шиитов в пределах империи готовились к бунту, выглядело, разумеется, угрожающим. Об этом периоде истории Марокко, резко отличающемся от общего положения в мусульманском мире, см. Coissac de Chavrebiere, Histoire du Maroc (Paris: Payot, 1931), pp.268-94.
970
Турки претендовали также на власть сюзерена над самим Марокко, однако это скорее были планы на будущее, а не реальность тех дней. См. Braudel, La Mediterranee. p.995.
971
Alphonse Gouilly, Vlslam dans L’Afrique occidentale frangaise (Paris: Larousse, 1952), pp.62-63.
972
Титул халифа, т.е. наследника пророка как главы правоверных на земле, утратил определенность своего первоначального значения к XVI в. Суннитские правоведы склоняются к мнению, что настоящий халифат исчез в XIII в., когда монголы уничтожили остатки государства Аббасидов. Таким образом, периодическое включение титула «халиф» в перечень различных официальных титулов османских султанов не имеет большого значения. Так именовали и других мусульманских правителей. Тем не менее политическая мусульманская теория, как суннитская, так и шиитская, призывала к объединению правоверных в едином политическом сообществе, и любой правитель, включая османских, претендуя на религиозную законность, должен был стремиться ко всеохватывающему владычеству в рамках ислама, сколь бы туманной ни была идея такого владычества. О халифате и османских султанах см. H.A.R.Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, Vol.1, Part I, pp.26-38; TW.Arnold, The Caliphate (Oxford: Clarendon Press, 1924), chap.xi.
973
Точный характер религиозной политики Акбара и ее мотивов - предмет дискуссий. Как представляется, сам Акбар был человеком широких взглядов, доискивавшимся истины в религии и с интересом слушавшим представителей любой веры, не противоречившей его кругозору, даже если услышанное не всегда было для него убедительным. Он собрал вокруг себя знающих людей и пробовал обряды и правила, взятые из различных источников. Вполне возможно, что Акбар относился к этой группе как к некоему суфийскому ордену, а себя считал ее основателем и главой. Такое эклектическое и отчасти тайное поведение возмущало ортодоксальных мусульман, мучило наблюдавших это христианских миссионеров, но воспринималось совершенно естественно любым индуистом. См. F.W. Buckie, «A New Interpretation of Akbar's 'Infallibility Decree' of 1579», Journal of the Royal Asiatic Society (1924), pp.590-608; M.L.Roychourdouri, The State and Religion in Mughal India (Calcutta: Indian Publicity Society, 1951), pp.67-118; Sri Ram Sharma, The Religious Policy of the Mughal Emperors (Oxford University Press, 1940), pp. 15-69; Arnulf Camps, Jerome Xavier S.J. and the Muslims of the Mogul Empire (Schoneck-Beckenried, Switzerland: Nouvelle Revue de Science Missionaire, 1957), pp.51-91; Aziz Ahmad, «Akbar, Heretique ou Apostat?» Journal Asiatique, CCXLIX (1961), 21-35.
974
В политике Аурангзеба, как это было и с Акбаром, могли играть определенную роль личные религиозные убеждения. При этом следует иметь в виду, что к тому моменту, когда он взошел на индийский трон, власть Османов была ослаблена, и потому Аурангзеб мог надеяться занять место султана во главе всего суннитского сообщества. Завоевания Аурангзеба в Южной Индии с истреблением неверующих и еретиков ясно указывали на него как на подлинного халифа и предводителя правоверных, а следовательно, могли предприниматься им именно с этой целью. Ученые-правоведы действительно даже за пределами его владений именовали его этим титулом. H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, Vol.I, Part I, p.35. См. также прекрасный труд Азиза Ахмада: Aziz Ahmad, «Moghulindien und Dar-al-Islam», Saecuumy XII (1961), 266-90; John Norman Hollister, The Shi'a of India (London: Luzac & Co., 1953), pp.126-40.
975
Упрощенные ученые книги играли роль «краткого катехизиса» христианской церкви в Западной Европе. По вопросу о шиитской богословской литературе и примерах типичных религиозных книг см. E.G. Browne, History of Persian Literature (Cambridge: Cambridge University Press, 1920), IV, 368-411.
976
Судя по языку его тюркских поэм Исмаил предстает человеком, утверждающим, что он - не больше и не меньше как воплощенный бог, и тюркские племена, ставшие под его знамена, очевидно, верили в это. Эти утверждения не были, однако, официальной точкой зрения сторонников идеи двенадцати имамов, заявлявших, что Сефевиды - лишь потомки седьмого из двенадцати законных имамов и соответственно находятся чуть ближе к богу, чем обычные люди. См. Hans Robert Roemer, «Die Safawiden», Saeculum, IV (1953), 31-33.
977
Ядром первых сил Исмаила были семь тюркских племен из Азербайджана.
978
Sir Percy Sykes, A History of Persia (2d ed.; London: Macmillan & Co., 1921), II, 175-76; Laurence Lockhart, The Fall of the Safavi Dynasty (Cambridge: Cambridge University Press, 1958), pp. 18-22. До царствования Аббаса у персов не было артиллерии и огнестрельного оружия у пехоты. Аббас получил их при посредничестве европейских купцов и авантюристов, в частности, при помощи двух англичан - Роберта и Энтони Шерли.
979
Нужно было, например, считаться с янычарами, которые могли встать на защиту своих духовных наставников - дервишей Бекташи. Другие ордена дервишей поддерживали подобные стратегические отношения с городскими гильдиями в столице и в провинциях, в частности в Анатолии.
980
A.H. Lybyer, The Government of the Ottoman Empire in the Time of Suleiman the Magnificent (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1913). В работе: H.A.R. Gibb and Harold Bowen, Islamic Society and the West, несмотря на название, предложен самый лучший анализ религиозной политики Османов, проводившейся в рассматриваемый нами период.
981
См. Jadunath Sarkar, Mughal Administration (Calcutta: M.C.Sarkar & Sons, 1920); W.H.Moreland, India at the Death ofAkbar (London: Macmillan & Co., 1920), pp.31-94; R.C.Majumdar et al, Advanced History of India (London: Macmillan & Co., 1958), pp.554-65; J.N.Hollister, The Shi a of India, passim.
982
Названные мемуары переведены на английский язык Аннетт С. Биверидж: Annette S. Beveridge (4 vol.; London: Luzac & Co., 1912-21). Турецкая литература и литература урду описана, возможно, с чрезмерным восхищением и с обширными переведенными отрывками в работах: E.J.W.Gibb, A History of Ottoman Poetry, II, III (London: Luzac & Co., 1902, 1904); Ram Babu Saksena, A History of Urdu Literature (Allahabad: Ram Narain Lai, 1940).
983
По вопросам мусульманского искусства рассматриваемого периода я использовал следующую литературу: RB.Havell, Indian Architecture from the First Mohammedan Invasion to the Present Day (London: John Murray, 1913); Heinrich Gluck and Ernst Diez, DieKunstdes Islam (Berlin: Propylaen-Verlag, 1925); Arthur Upham Pope, An Introduction to Persian Art (London: Peter Davies, 1930); Arthur U.Pope (ed.), A Survey of Persian Art (6 vols., London: Oxford University Press, 1938-39); Sir Thomas W.Arnold, Painting in Islam (Oxford: Clarendon Press, 1928); Percy Brown, Indian Painting under the Mughab (Oxford: Clarendon Press, 1924); L.A.Mayer, Islamic Architects and Their Works (Geneva: Albert Kundig, 1956); Hermann Goetz, Bildratlas zur Kidturgeschichte Indiens in der Grossmogulzeit (Berlin: Dietrich Reimer & Ernst Vohsen, 1930).
984
Чудовищной бездны религиозной нетвердости, разверзшейся было перед суннитской общиной ислама, удалось избежать скорее институциональными, чем интеллектуальными способами. После того как интеллектуальный вызов ереси был встречен не чем иным, как открытым утверждением прошлого, путь для более конструктивных ответов на дальнейшие интеллектуальные вызовы оказался закрытым. Более того, самые убежденные и образованные сунниты пришли к выводу, что некритичное принятие религиозной истины есть единственное прочное в интеллектуальном смысле положение; и чем менее критичным будет отношение, тем лучше. Однако за отсутствием полемики интеллектуальная мощь Османской империи стала быстро идти на спад, а улемы все в меньшей степени могли считаться полновластными хозяевами даже их собственного интеллектуального наследия. Такая интеллектуальная слабость оказалась высокой платой за защиту суннизма от наступления ереси. Любопытно, что интеллектуальная энергия мусульман осталась явно выше в Персии и Индии, где религиозные споры носили ожесточенный характер (особенно в Индии).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: